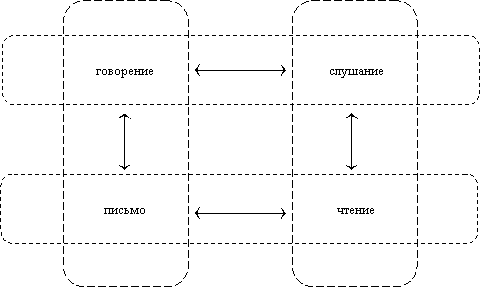678. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1959.
9. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — М., 1973.
10. Jacobson R. Linguistics and Poetics. // Style and Language. — N.-Y., London, 1960.
II.3. Виды речевой деятельности
Виды речевой деятельности — говорение, слушание чтение, письмо — определяются по двум основаниям: форме общения (устной, непосредственной или письменной, опосредствованной) и по характеру направленности речевого действия: «от мысли к слову» или «от слова к мысли», что отметил еще В. Гумбольдт. В зависимости от основания их определения виды речевой деятельности попарно объединяются следующим образом: «говорение — слушание», «письмо — чтение» объединены в зависимости от формы общения, пары «говорение — письмо», «слушание — чтение» отражают характер самого действия — прием или выдача сообщения.
1. «Говорение — слушание» реализуют устную форму общения. Так как говорение часто называют, по Ф. де Соссюру, речью, а слушание рассматривают в качестве условия, необходимой части общения, то по форме общения это отношение двух видов речевой деятельности часто называют «устная речь».
2. «Письмо — чтение» реализует письменную, опосредствованную временем и расстоянием форму общения. По аналогии с устной формой общения, которая определяется как «устная речь», это отношение называется часто «письменной речью», хотя в большинстве случаев чтение рассматривается отдельно в силу ощущаемого авторами несоответствия понятий «речь» и «чтение» в рамках единого целого.
3. «Говорение — письмо» реализуют процессы выражения мысли, чувств, волеизъявлений человека (коммуниканта, адресанта) в разных формах общения.
684. «Слушание — чтение» реализуют процессы приема, осмысления, оценивания; интерпретацию речевого сообщения человеком (реципиентом, адресатом). Если эти отношения видов речевой деятельности представить схематически как взаимно перекрещивающиеся плоскости, то очевидна и наглядна коммуникативно-психологическая основа взаимосвязи и взаимодействия самих видов речевой деятельности в процессе общения.
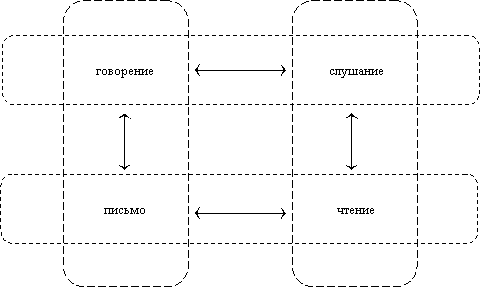
Названные основания определения видов речевой деятельности служат в то же время и параметрами, по которым выявляется их общность и различие. Главными среди этих параметров являются следующие: а) характер вербального (речевого) общения; б) направленность речевого действия человека на прием или выдачу сообщения; в) роль речевой деятельности в вербальном общении; г) наличие одного из трех способов формирования и формулирования мысли; д) характер внешней выраженности; е) характер обратной связи.
По характеру речевого общения, как уже отмечалось выше, речевая деятельность дифференцируется на виды, реализующие устное и письменное общение. К видам речевой деятельности, осуществляющим устное общение, относятся говорение и слушание. Это базальные ее виды,
69определяющие речевой онтогенез. К этим видам речевой деятельности формируется наследственная предрасположенность, или генетическая готовность. Говорение и слушание формируются у человека в онтогенезе как «путь», инструмент реализации его общения с другими людьми и как основные каналы, при помощи которых в слове, в его значении осуществляется не только общение, но обобщение, то есть познавательная деятельность...
...Чтение и писание (или письмо), реализующие письменное общение, представляют собой более сложные виды речевой деятельности. Они требуют специального целенаправленного обучения для овладения ими. Трудность овладения чтением и письмом объясняется тем, что в них отражен не только самый сложный — внешний, письменный — способ формирования и формулирования мысли, а также и тем, что они предполагают усвоение нового способа фиксации результатов отражения действительности, то есть ее графического представления. Очевидно, что обучение чтению и письму представляет самостоятельную, достаточно сложную задачу обучения, решение которой требует дополнительных по сравнению с обучением слушанию и говорению учебных действий.
По направленности осуществляемого человеком речевого действия на прием или выдачу речевого сообщения виды речевой деятельности, как известно, определяются как рецептивные и продуктивные. Посредством рецептивных видов (слушания, чтения) человек (реципиент, адресат) осуществляет прием и последующую переработку речевого сообщения. Посредством продуктивных видов речевой деятельности (говорения, письма) человек (коммуникант, адресант) осуществляет выдачу речевого сообщения. Рецептивные виды речевой деятельности функционируют на основе работы слухового и зрительного анализаторов. Продуктивные ее виды основываются на совместной работе речеслуходвигательного и зрительного аппаратов. Соответственно, слушание и чтение определяются особенностями слухового и зрительного восприятия, тогда как реализация говорения и тем более письма обусловливается выработкой и осуществлением сложной системы порождения речевого высказывания, включающей речедвигательную программу...
...По характеру той роли, которую в процессе общения выполняют виды речевой деятельности, они дифференцируются
70на инициальные и реактивные. Говорение и письмо являются инициальными процессами общения, стимулирующими слушание и чтение. Слушание и чтение выступают в качестве ответных реактивных процессов, и в то же время они рассматриваются как условие эффективного говорения (письма). При этом, на что обращал внимание еще Л. В. Щерба, они внутренне не менее активны, чем, например, говорение...
...Различные виды речевой деятельности предполагают и различные способы формирования и формулирования мысли, или (если под способом формирования и формулирования мысли посредством языка понимаем речь) различные формы речи. Таких форм три — внешняя устная, внешняя письменная и внутренняя. Естественно, что каждый из видов речевой деятельности определяется своей спецификой, проявляющейся прежде всего в характере их связи с речью и мышлением. Так, говорение является выражением внешнего устного способа формирования и формулирования мысли в устной форме общения. Письмо служит целям фиксации и последующей передачи этого письменного, а иногда и устного способов формирования и формулирования мысли. Предложенное понимание речи не позволяет утверждать, как это часто делается, что внутренняя речь предшествует говорению или письму, ибо тогда получается, что внутренний способ формирования и формулирования мысли предшествует говорению как виду речевой деятельности. Это непоследовательно и лишено логики. Корректнее выразить эту мысль так: «думание» как один вид речевой деятельности, предполагающее (включающее в себя) внутренний способ формирования и формулирования мысли, предшествует говорению (письму) как другому ее виду. Соответственно, предполагаемые каждым из этих видов речевой деятельности способы формирования и формулирования мысли также предшествуют один другому. Чтение и слушание включают внутренний способ формирования и формулирования мысли. Взаимосвязь всех видов речевой деятельности, форм речи (или способов формирования и формулирования мысли посредством языка) и характера общения (непосредственного или опосредствованного) достаточно сложна, что отражает многогранность и многообразие самого речевого общения посредством языка.
71Следующим параметром, по которому виды речевой деятельности отличаются друг от друга, является характер их внешней выраженности. Говорение и письмо — это продуктивные виды речевой деятельности, внешне выраженной активности, процессы построения, создания мыслительной задачи для других. Слушание и чтение — внешне невыраженные процессы внутренней активности, вызванной необходимостью формирования и формулирования заданного извне смыслового содержания, то есть решения мыслительной задачи вербальными средствами для себя. Такая особенность рецептивных видов речевой деятельности позволяет определять их как внутренние, в отличие от внешне выраженных говорения и письма. При этом следует подчеркнуть мысль А. Н. Леонтьева, что по структуре и по предметному (психологическому) содержанию внутренние виды деятельности не отличаются от внешне выраженных...
...Виды речевой деятельности отличаются друг от друга и по характеру обратной связи, регулирующей эти процессы. Так, в обоих продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме) осуществляется мышечная (кинестетическая, проприоцептивная) обратная связь от органа исполнителя (артикуляционного аппарата, пишущей руки) к организующему программу этого действия участку головного мозга. Эта мышечная обратная связь выполняет функцию внутреннего контроля. При этом в регулировании письма, особенно на начальных этапах его формирования, участвуют обе формы мышечного, кинестетического контроля — от органов артикуляции и от руки.
Наряду с мышечной, «внутренней» обратной связью продуктивные виды речевой деятельности регулируются и «внешней» слуховой обратной связью в говорении, и «внешней» зрительной обратной связью в письме. При этом, отмечая преимущества пространственного зрительного восприятия по сравнению с необратимым во времени слуховым восприятием, подчеркнем отмеченную Л. С. Выготским большую произвольность и контролируемость письма субъектом деятельности по сравнению с говорением...
...В обоих рецептивных видах речевой деятельности — слушании и чтении — обратная связь осуществляется по внутренним каналам смысловых решений, механизм которых
72недостаточно ясен. При этом если в процессе чтения эффект обратной связи более или менее выявляется в регрессивных движениях глаз и паузах фиксации, то при слушании этот эффект вообще не наблюдаем и не контролируем. Это свидетельствует о большей сложности организации управления слушанием, чем чтением...
...Рассмотрение продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности во всей совокупности определяющих их основных характеристик — структурной организации, предметного содержания, психологических механизмов, особенностей внутреннего плана деятельности и единства содержания и формы — позволяет также провести более четкую грань между явлениями «слушание», «чтение», «говорение», «письмо», выступающими в качестве речевых процессов и видов речевой деятельности...
...В чем же заключается специфика, например, говорения как речевой деятельности по сравнению с определением его в качестве процесса? Отличие состоит, во-первых, в том, что трактовка явления как деятельности предполагает прежде всего наличие в нем вызвавшей его мотивационно-потребностной сферы человека — субъекта деятельности.
Во-вторых, деятельностный подход дозволяет раскрывать и психологическое содержание вида речевой деятельности в совокупности ее предмета, средств, способа.
Проведенное сопоставление показывает, что понятие «речевой процесс» оказывается более широким, менее дифференцированным, чем понятие «речевая деятельность». Соответственно, характеризуя, например, говорение как «речевой процесс», будем иметь в виду только обозначение самого явления говорения или слушания. Употребляя же термин «речевая деятельность», будем иметь в виду это явление во всей совокупности его деятельностных характеристик. Таким образом, если сопоставить определение речевых умений (слушания, говорения, чтения, письма) как речевых процессов и как видов речевой деятельности, то очевидны несомненные теоретические (методологические и общенаучные) и, более того, практические преимущества второго подхода.
73 II.3.1. Говорение как вид речевой деятельности
Выражение человеком мыслей, чувств, волеизъявления, или собственно процесс его говорения, издавна привлекало внимание философов, лингвистов, психологов. Начиная с середины прошлого века, исследователи заинтересовались и внутренней стороной этого процесса, то есть тем, как мысль говорящего переходит в звучащее слово. В последние десятилетия пристальное внимание обращается на продукт говорения — текст, который изучается как с лингвистической, так и психологической точек зрения.
Проведенные исследования с большой очевидностью свидетельствуют, что говорение — это сложный и многогранный процесс. Интерпретация этого явления с позиции теории деятельности в то же время показывает, что это внутренне мотивированный, строго организованный, активный процесс. Знание психологических особенностей говорения может оказаться полезным для каждого интересующегося этой проблемой.
Как уже отмечалось выше, психологическое содержание деятельности вообще, и речевой деятельности в частности, определяется наличием предмета, продукта, результата, средств и способов ее реализации, а также характером ее единиц. Начнем с рассмотрения предмета говорения.
Предмет, как известно, рассматривается в качестве одной из основных характеристик деятельности. По определению А. Н. Леонтьева, «всякая деятельность организма направлена на тот или иной предмет, непредметная деятельность невозможна» [9. С. 50]. Предметом говорения является мысль как отражение в сознании человека связей и отношений явлений реального мира. Этот идеальный предмет обусловливает специфический характер деятельности говорения и его цель, а именно — выражение мысли.
Одной из определяющих мысль характеристик является то, что мысль — это установление смысловой связи.
Элементарным проявлением смысловой связи является межпонятийная связь.
74Основным определяющим динамику мысли типом межпонятийной смысловой связи является предикативная связь. Эта связь может быть явной или депредицированной.
Наряду с определяющей структуру высказывания предикативной связью в нем устанавливаются общедополнительные смысловые связи (см.[5; 12; 7]). Они раскрывают основную предикативную связь по линии конкретизации, уточнения, расширения или обобщения отражаемых в высказывании предметных связей, существующих в самой объективной действительности.
Рассматривая мысль как предмет говорения, необходимо обратить внимание на динамичность, — «текучесть» смыслообразующих отношений в построении высказывания — от исходного общего к отдельному. Мысль как предмет говорения — сложная структура отношений, верхний уровень иерархии которой представляет собой самое общее и в то же время самое главное для говорящего. Соответственно, трудность и внутренняя противоречивость процесса высказывания мысли заключается в том, что, высказывая отдельное предложение, говорящий посредством него раскрывает и общую мысль. Другими словами, специфика мысли как предмета говорения заключается в том, что она раскрывается в самом процессе говорения, в ходе установления всех смысловых связей нижележащих уровней вплоть до межпонятийных. Следует также отметить, что «общая исходная мысль, то есть самый верхний уровень всей структуры смыслообразования, может быть и не выражена в тексте, находясь в подтексте или, точнее, образуя подтекст сообщения.
Являясь чаще всего результатом продуктивного мышления или, точнее, собственной творческой мыслительной деятельности говорящего, мысль может реализоваться и в процессе воспроизведения (например, пересказа текста) мыслей других людей, то есть быть результатом репродуктивного мышления. И в том и другом случае это — мысль как предмет говорения. Другими словами, мысль включает как продуктивные, так и репродуктивные элементы. Таковы особенности мысли как предмета говорения.
Если предметом» говорения как вида речевой деятельности является мысль, на формирование и выражение которой
75направлено и в осуществлении которой и реализуется говорение, то средством существования, формирования и выражения этой мысли, как было показано выше, является язык или языковая система. Но мысль говорящего может быть по-разному сформирована и сформулирована при помощи одних и тех же языковых средств, то есть одного и того же лексического словаря (лексикона) и грамматики. Как замечено [1], «текст «Он проплыл 100 метров кролем за 45 секунд» для всякого носителя русского языка значит: «плывя стилем «кроль»; он покрыл расстояние в сто метров и затратил на это 45 секунд». И далее отмечается, что «достаточно знать только грамматику языка и словарные значения слов, чтобы построить перифразы: «Стометровую дистанцию (стометровку) он проплыл кролем за 45 секунд»; «На сто метров кролем у него ушло 45 секунд»; «Стометровку он прошел кролем за 45 секунд»; «Он затратил 45 секунд на то, чтобы пройти кролем расстояние в 100 метров»; «Стометровку он проплыл кролем за 3/4 минуты» и очень многие другие». Анализируя подобную речевую ситуацию, А. Р. Лурия приходит к выводу, что таких перифраз может быть очень много [10. С. 13].
Можно утверждать, что все эти перифразы есть отражение способа деятельности, то есть способа формирования и формулирования мысли посредством языка. Способ был определен нами выше как речь. Еще раз подчеркнем здесь, что речь не есть процесс общения, речь не есть и говорение, речь — это способ формирования и формулирования мысли в самом процессе речевой деятельности, в частности, говорения.
Следующим, не менее важным элементом психологического содержания говорения является продукт — речевое высказывание (текст), речевое сообщение. Продукт — это то, в чем объективируется, воплощается, материализуется все психологическое содержание деятельности говорения, все условия ее протекания, а также особенности самого субъекта говорения (ср., например, в скульптуре воплощается деятельность ваяния, а в симфонии — композиции).
Другими словами, именно в продукте результируется и объективируется цель, предмет, способ и средства этого
76вида речевой деятельности. Иначе как через анализ продукта говорения — высказывания (текста) — о содержании деятельности никак судить нельзя. Важность этого элемента психологического содержания говорения объясняет то, что его рассмотрение вынесено в специальный раздел (см. III.3).
Отметив, что в теории деятельности понятия продукта и результата разграничиваются нечетко и что для анализа говорения это разграничение необходимо, перейдем к определению последнего.
Результатом говорения является ответное действие участника речевого общения (вне зависимости от того, имеет ли это действие внешнее выражение или нет, осуществляется ли оно сразу же или через некоторое время). Так, например, результатом говорения учителя является то, что ученики слушают (или не слушают) его. Результатом говорения учеников является слушание учителя, его одобрение или неодобрение их высказывания. Напомним, что продуктом говорения является само высказывание, речевое сообщение (текст), вызывающее этот результат.
Единицей деятельности говорения является речевое действие, входящее в структуру говорения. Если продуктом деятельности говорения является целое высказывание (текст), то речевыми действиями, создающими этот продукт, являются фразы как относительно законченные коммуникативные смысловые образования. Действительно, если деятельность говорения воплощается в целом тематическом высказывании, то каждая реализующая его фраза — это коммуникативная, смысловая речевая единица.
Фраза выражает суждение. Как известно, суждение состоит из субъекта (того, о чем сообщается) и предиката (того, что сообщается). В психологических исследованиях субъект часто определяется как данное, а предикат как то новое, что сообщается в суждении [14]. «Суждение представляет собой такую мысль, в которой при высказывании ее нечто утверждается о предметах действительности и которая объективно является либо истинной, либо ложной и при этом непременно одной из двух» [6. С. 92].
Психологический предикат всегда выделен в устном сообщении логическим ударением. Анализируя психологическую природу этого явления, Л. С. Выготский отметил, что между психологической и грамматической (языковой)
77данностью нет полного соответствия. Так, например, во фразе «Часы упали», в зависимости от того, знают ли слушатели, что речь идет о «часах» или о том, «стоят» они или «упали», будет выделено ударением первое или второе слово. Называя психологический предикат «психологическим сказуемым», Л. С. Выготский отмечает, что «в сложной фразе любой член предложения может стать психологическим сказуемым, и тогда он несет на себе логическое ударение, семантическая функция которого и заключается как раз в выделении психологического сказуемого» [4. С. 309].
Специальное экспериментальное исследование этой проблемы З. А. Пегачевой [13. С. 484] показало, что в русском языке психологический предикат находится, как правило, в конце фразы. Если же психологический предикат помещается в другом месте (соответственно, выделяется логическим ударением), то создается впечатление какого-то противопоставления или подтекста. Сравним, например, фразы: «Все ученики с интересом слушали учителя», «Все ученики с интересом слушали учителя», «Все ученики с интересом слушали учителя» и «Все ученики с интересом слушали учителя», «Все ученики с интересом слушали учителя», «Все ученики с интересом слушали учителя». Явно, что во всех фразах, кроме последней, логическое ударение, выделяя психологический предикат, в то же время создает определенный подтекст противопоставления: «все — не все», «были и не ученики, которые не слушали», «с интересом — без интереса», «слушали, а не следили за показом», «учителя, а не директора». И только последняя фраза звучит обычно. Следует отметить, что фразовым, логическим, ударением обычно выделяется не одно слово, а группа слов, несущая предикативную нагрузку, или так называемая предикативная группа.
В лингвистических исследованиях последних лет суждение и фраза рассматриваются не в терминах «субъект» — «предикат», а как связь «данного» и «нового», определяемых как «тема» и «рема». Соответственно, речевое действие — фраза, выражающее определенное суждение, включающее тематический и рематический компоненты и реализующее деятельность говорения, и рассматривается нами как речевой поступок. По определению В. А. Артемова, «речевой поступок является простейшей единицей
78вербального общения» [2. С. 264], в котором «как расстановка предикатов по содержанию, так и вид речевого действия являются предметом понимания» [8. С. 30]. Речевое действие является выражением коммуникативного намерения, которое наряду с предметным содержанием мысли обязательно присутствует в акте общения.
Определив речевой поступок как единицу говорения, мы должны соотнести ее с единицей обучения говорению на иностранном языке. В качестве таких единиц могут выступить элементы или коммуникативные блоки фразы, произносительные и языковые единицы. Обучая говорению на иностранном языке, учитель, естественно, начинает обучение с определенных языковых и произносительных единиц. Однако часто бывает неясно, каков общий круг тех единиц, которые формируются в процессе обучения говорению, есть ли какая-либо иерархия или по крайней мере упорядоченность этих единиц.
С тем чтобы точнее представить круг единиц и их характер, прежде всего разграничим то, что относится к исполнительной, моторной, фонационной стороне говорения, и то, что относится к его содержательному аспекту. В фонационной части говорения выделяются интонационные (мелодические) и произносительные единицы — слог, слово и синтагма (по признакам временной организации, организации дыхания, ритма). Формирование «фонационных» единиц, отражающих всю сложность логико-семантико-синтаксических отношений в высказывании говорящего, представляет особую и достаточно трудную задачу обучения.
В плане содержания говорение может быть также представлено определенной иерархией единиц, среди которых по степени обобщенности отражаемых в них связей предметной действительности могут быть выделены следующие уровни: 1) логико-синтаксические структуры; 2) лексические «функции» (или семантические связи слов); 3) грамматические структуры (или модели); 4) лексические единицы — значимые слова.
Рассмотрим прежде всего самые обобщенные единицы — единицы первого уровня, в качестве которых выступают как бы типовые, «начальные», логико-синтаксические структуры, представляющие собой «наиболее общие модели, в которых мысль формирует смысл» [3. С. 18]. Лингвистами выделены четыре такие логико-грамматические
79«начала»: отношения экзистенции или бытийности (I); отношение идентификации или тождества (II); отношения номинации, идентификации, или именования (III); отношения характеризации, или предикации в узком смысле этого термина (IV) [3]. Согласно такой классификации, все суждения, утверждающие (или отрицающие и спрашивающие) сущность, местонахождение, наличие предметов, явлений, имен, относятся по типу к бытийным. Например: «У тебя есть штопор (зеркало, дела, язва желудка, родинка, лысина, деньги и т. д.)?» — «Да, у меня есть штопор (зеркало и т. д.)»; «Нет, у меня нет штопора (зеркала и т. д.)»; «Где здесь сберкасса?»; «Что у него на столе?» и т. д.
Как отмечает автор концепции «начальных» структур Н. Д. Арутюнова, между бытийными (I) и предикативными (IV) отношениями существует очень подвижная граница. Например, фраза «У него грипп» выражает бытийное (экзистенциальное) отношение, тогда как фраза «Он болен» — предикативное, характеризующее отношение, равно как фразы «Море сегодня спокойно», «Эта змея огромна» и т. д. Бытийные предложения только условно могут быть названы суждениями, так как предикатом, или ремой, в них является «оно само по отношению к миру». Отношения характеризации или предикации (в узком смысле) содержат четкое единство темы и ремы, где рема есть определение, раскрытие, объяснение темы. (Например, предикатное отношение с четко выраженным рематическим компонентом — «Некоторые дети не хотят слушаться своих родителей» — может быть построено и по типу бытийного отношения — «Есть дети, которые не хотят слушаться своих родителей».)
Вторая группа начальных логико-синтаксических структур выявляет отношение идентификации или тождества между именами или предметами, внутри которого Н. Д. Арутюнова выделяет номинативные и денотативные тождественные отношения. Примерами номинативных являются следующие фразы: «Зевс — это то же самое, что Юпитер», «Ладья — это тура». Примерами денотативного тождества являются фразы: «Понять — это простить», «Жена Петра — учительница моего сына».
80В этих начальных логико-синтаксических отношениях, как отмечает Н. Д. Арутюнова, несколько изменяется связь темы и ремы: «В строгом и собственном смысле предложения денотативного тождества, то есть предложения идентификации, лишены подлежащего и сказуемого, хотя они членятся на тему и рему. Так, в предложении «Ерунда — это то же самое, что чепуха» во втором члене, то есть реме, заключается известное» [3. С. 325].
Отношения номинации, или именования (третья группа, по Н. Д. Арутюновой), соединяют объект и его имя, например: «Этого мальчика зовут Коля»; «Это Коля»; «Коля»; «Это дерево — сосна», и достаточно широко представляют класс входящих сюда отношений.
Заключая общий обзор этих «начальных» структур, Н. Д. Арутюнова приходит к очень важному, на наш взгляд, для практики обучения иностранному языку выводу: «Итак, хотя те сущности, которыми оперирует человеческое мышление (денотат, сигнификат, означающее предмет, понятие, имя), способны быть терминами большого количества логических отношений (таких отношений могло бы быть девять), для формирования синтаксических структур русского языка (а возможно, и других языков) существенны лишь четыре названных вида отношений, каждое из которых соотносительно с особой логико-синтаксической структурой — экзистенциальными предложениями, предложениями тождества, предложениями именования и предложениями характеризации [3. С. 20]. Важно также отметить, что при анализе этих «начальных» структур все время подчеркивается роль «коммуникативной цели», «коммуникативного фокуса», которые определяют конкретное реальное звучание каждой отдельной фразы, отражающей то или другое отношение.
В качестве единиц второго уровня выступают лексические функции, или, точнее, семантические функции связи. Так же, как при определении четырех логико-синтаксических отношений, исходным пунктом анализа и этого уровня единиц является отражаемая ими ситуация в самом широком смысле этого слова. При определении лексических функций (или семантических связей) слова исходным является определение его валентности, то есть количества «участников» ситуации, стоящей за этим словом. Так, например, «существенным для ситуации аренды являются следующие «участники», или семантические актанты:
81субъект аренды (тот, кто арендует), первый объект аренды (то, что арендуют), контрагент (тот, у кого арендуют), второй объект (то, за что арендуют, — плата) и срок (то, на сколько арендуют). Эти актанты достаточны и необходимы, то есть полностью определяют именно ситуацию аренды... Валентности, которые присоединяют к глаголу арендовать названия пяти перечисленных актантов, и будут семантическими для этого слова» [1].
На основе общего понятия «валентности» исследователями были установлены и систематизированы определенные ее типы, например, субъекта, объекта, получателя, источника, места и т. д., определяющие лексические связи слов или лексические функции. Как отмечает А. Р. Лурия, «все богатство возможных семантических связей между словами можно свести к 40—50 основным типам лексических функций» [10. С. 19] типа: синонимии, каузирования, функционирования и т. д. Сразу же отметим важность этого вывода для практики обучения иноязычному говорению. Так, если число связей известно, то их можно учесть, сделав каждую лексическую функцию единицей обучения говорению на иностранном языке.
Модель, или грамматическая структура, представляет собой единицу третьего уровня содержательного плана говорения — уровня грамматической организации предложения. По определению И. В. Рахманова, «модель является условным обозначением особо формально выраженного взаимоотношения между субъектом и предикатом» [15. С. 28]. Количество членов модели определяется смыслом предложения и валентностью слов. Так, И. В. Рахманов, выделяя, например, 10 моделей немецкого языка типа S — Pv, Pv, S — Pn, S — Pv — O и др., подлежащих усвоению в 5—8-х классах средней школы, отмечает, что каждая из них может иметь структурные варианты. Общее количество таких моделей во всех структурных вариантах более 100, то есть на порядок выше, чем количество лексических функций (количество последних — десятки, а моделей более сотни). При этом, как отмечает О. И. Москальская, разработка окончательного инвентаря моделей предложения, критериев вычленения структурного каркаса предложения, который может быть рассмотрен в качестве модели, представляет все еще большую проблему для ее исследователей [11]. В качестве одной из наиболее изученных единиц обучения говорению на иностранном
82языке, но единиц другого — лексического плана выступает слово как минимально значимая единица.
Таким образом, в содержательном плане говорения могут быть выделены по крайней мере четыре уровня единиц. Если эти единицы, функционирующие в говорении, представить как иерархию единиц обучения говорению на иностранном языке, то обращает на себя внимание интересная особенность их организации. Количество единиц возрастает на порядок на каждом уровне: четыре логико-семантико-синтаксические структуры (то есть единицы); сорок — пятьдесят семантических, лексических функций (то есть десятки); от ста и более моделей (в их структурных вариантах) (то есть сотни); более тысячи, языковых лексических единиц, создающих соответствующее количество речевых образцов или реализации (то есть тысячи).
Понятно, что при овладении родным языком ребенок интуитивно овладевает всеми четырьмя уровнями единиц в процессе общения. Пользуясь метафорой Л. С. Выготского, можно сказать, что он идет «снизу вверх»: от речевых реализаций и отдельных слов к грамматическим структурам (моделям), к операциональному выявлению лексических функций и к уяснению (интуитивному) основных логико-синтаксических структур. Школьное обучение помогает ему осознать то, чем он уже владеет.
Ссылки на литературу II.3.1
1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка. — М., 1974.
2. Артемов В. А. Речевой поступок // Преподавание иностранных языков. Теория и практика. — М., 1971.
3. Арутюнова Н. Д. Предложение и смысл. — М., 1976.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6-ти т. — М., 1982.
5. Гальперин И. Р. Текст как объект исследования. — М., 1981.
6. Горский Д. П. Логика. — М., 1963.
7. Доблаев Л. П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания. — М., 1982.
8. Жинкин Н. И. Вопрос и вопросительное предложение // Вопр. языкознания. — 1955. — № 3.
9. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1981.
10. Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. — М., 1975.
11. Москальская О. И. Некоторые вопросы моделирования предложения // Иностранные языки в школе. — 1973. — № 1.
12. Москальская О. И. Грамматика текста. — М., 1981.
8313. Пегачева З. А. Экспериментальная фонетика и психология речи. Понимание предложения // Уч. записки 1-го МГПИИЯ им. М. Тореза. — М., 1960. — Т. XX.
14. Попов П. С. Суждение. — М., 1957.
15. Рахманов И. В. Модели и их использование при обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе. — 1965. — № 4.
16. Слюсарева Н. А. Смысл как экстралингвистические явления // Как подготовить интересный урок иностранного языка. — М., 1968.
17. Фигуровский И. А. Синтаксис целого текста и ученические письменные работы. — М., 1961.
II.3.2. Слушание как вид речевой деятельности
Слушание представляет собой не менее сложный вид речевой деятельности, чем говорение. Рассмотрим этот процесс с тех же позиций анализа структуры и психологического содержания, с которых ранее описывалось говорение. Так же, как и говорение, по структуре слушание прежде всего характеризуется трехфазностью, трехчастностью.
Первая фаза — побудительно-мотивационная. Как мы уже отмечали, ведущим и определяющим деятельность слушания является интеллектуально-познавательный мотив. В отличие от говорения, мотивационная сторона слушания в значительной мере зависит от деятельности другого участника общения, то есть от лектора. В этом плане слушание является как бы производным, вторичным в коммуникативной деятельности типа «лектор — аудитория». Цель слушания реализуется в предмете этой деятельности. Она заключается в раскрытии смысловых связей, осмыслении поступающего на слух речевого сообщения, произведенного говорящим. Другими словами, если предметом говорения является собственная мысль говорящего, развитие которой удовлетворяет его потребность высказывания и общения, то предмет слушания — чужая мысль, мысль лектора. Восстановление, понимание этой мысли и составляет цель слушания, в которой находит себя мотив этого вида речевой деятельности.
84Вторая — аналитико-синтетическая — фаза деятельности представлена в слушании достаточно полно и развернуто. По мнению многих исследователей, в процессе слушания проходит как бы несколько этапов аналитико-синтетической обработки поступающего на слух речевого сообщения. Так, В. А. Артемовым [6] было выдвинуто предположение, что эта обработка начинается с первичного, иногда ложного синтеза, проходит этап анализа и завершается вторичным, или конечным, синтезом. При рассмотрении структуры слушания как вида речевой деятельности важно подчеркнуть взаимосвязанность анализа и синтеза в этом процессе и соответственно правомерность выделения аналитико-синтетической части в слушании. Обеспечивающий эту часть деятельности операциональный механизм включает операции «внутреннего оформления» (в данном случае воссоздания) чужой мысли. К этим операциям относятся операции отбора (выбора), сличения и установления внутрипонятийных соответствий, установления смысловых связей. В отличие от говорения, слушание не имеет механизма внешнего оформления и соответственно не располагает программирующим и планирующим внешнее моторное выражение устройством. Поэтому слушание как вид деятельности в основном определяется внутренней его стороной, а именно, смысловым восприятием.
Как показали многочисленные исследования, восприятие речевого сообщения представляет собой сложный и неоднородный процесс. Сложность этого психического явления обусловливается тем, что, с одной стороны, это — процесс непосредственного, чувственного отражения действительности, с другой стороны, восприятие речевого сообщения по своей природе является в то же время и опосредствованным смысловым восприятием. Это обусловлено, во-первых, тем, что, согласно С. Л. Рубинштейну, «будучи осознанием предмета, восприятие человека нормально включает акт понимания, осмысления», и, во-вторых, специфической, второсигнальной природой
85самого объекта восприятия — речевого сообщения. В силу этого смысловое восприятие может рассматриваться как процесс, не только «включающий акт осмысления», но и осуществляемый механизмом осмысления.
При этом осмысление является процессом раскрытия и установления смысловых связей и отношений между выраженными словами понятиями. Осмысление, как и всякий другой психический процесс, имеет результативную сторону, которая может быть положительной и отрицательной. Положительный результат процесса осмысления в акте восприятия речевого сообщения есть понимание, тогда как отрицательный результат этого процесса свидетельствует о непонимании. Непонимание, таким образом, — это не отсутствие процесса осмысления, и представляется особенно важным подчеркнуть данное положение, а только его отрицательный результат, который свидетельствует о том, что процесс осмысления все время осуществлялся слушателями, но, к сожалению, не достиг адекватного ситуации общения результата. Таким образом, понимание (непонимание) в качестве результата процесса осмысления так же, как и само осмысление, органически входит в процесс смыслового восприятия речевого сообщения, представляя его внутреннюю результативную сторону.
Утверждение, что восприятие и понимание речи образуют единый процесс, подчеркивается во многих работах советских исследователей речи (С. Л. Рубинштейн, В. А. Артемов, Н. И. Жинкин, А. Н. Соколов, Б. В. Беляев и др.). Так, например, В. А. Артемов с большой определенностью указывал, что человек воспринимает речь на основе ее понимания и понимает на основе ее восприятия. Но важно отметить, что само «понимание» рассматривается при этом не как результат осмысления, а только как процесс, так или иначе связанный с восприятием. Для нас же существенно разграничение процессуальной стороны установления смысловых связей в смысловом восприятии, которую называем осмыслением, и результативной его стороны, которая и есть понимание (непонимание). Таким образом, результатом слушания является, по сути, результат осмысления: понимание или непонимание, но это внутренний результат. Внешний результат — ответное высказывание слушателя или его реакция согласия-несогласия.
86Продукт слушания — умозаключение, или цепь умозаключений, к которым пришел человек в результате слушания. Продукт может осознаваться, а может и не осознаваться человеком. Смысловое восприятие, как и любой другой процесс психического отражения, не планируется, ибо содержание слушания задается извне. Оно не структурируется слушающим, и характер протекания этого процесса произвольно не контролируется его сознанием. Таким образом, аналитико-синтетическая часть слушания как бы включает в себя и исполнительную часть этой деятельности, которая выражается в принятии решения на основе анализа и синтеза. Реализуется эта часть в продукте и результате. Все это позволяет говорить о слушании как о сложной, специфически человеческой внутренней деятельности.
При этом отмечается, что слушание — творческий активный процесс, наиболее явно проявляющийся при воздействии больших речевых сообщений типа полуторачасового лекционного выступления. Постулируя тем самым активность осмысления, входящего в процесс слушания, мы должны определить характер этой активности слушания по сравнению с активностью говорения. Активность, созидательность говорения совершенно очевидны из внешней выраженности этого процесса. Они проявляются в его результативно-продуктивной стороне — речевом сигнале, речевом сообщении, тексте. Процесс слушания представляет собой более сложное, не поддающееся непосредственному анализу явление. Поэтому при определении характера активности слушания, удобнее исходить из анализа вербального поведения взаимодействующих людей, то есть анализа характера взаимодействия партнеров А и Б в ситуации вербального общения. Рассмотрим три случая такого взаимодействия.
Первый — процесс слушания мотивируется потребностью не только понять речевое сообщение говорящего, но и выразить свое мнение на основе понимания услышанного. Несомненно, что такая мотивация создает внутреннюю установку слушающего, которая является приведением «перцептивной схемы, то есть схемы реакции, в состояние готовности» [25. С. 20]. В свою очередь, это состояние не может не выразиться в сосредоточенности и концентрации внимания, а следовательно, и в большей продуктивности всех психических процессов, ибо, являясь
87направленностью сознания, внимание служит катализатором всей умственной деятельности. Необходимость понимания слушателем речевого сообщения с целью выражения собственного мнения по этому поводу предполагает продуктивное осмысление речевого сообщения, сопоставление всего хода его изложения. Это требует мгновенной аналитико-синтетической обработки всего материала и удержания его результатов в оперативной памяти слушающего. Необходимость выразить свое мнение означает подключение к процессу слушания подготовительных фаз процесса говорения и, в частности, уяснения того, что и как сказать. Этот момент фиксирует как бы «параллельность» слушания и начальных фаз, собственного говорения, осуществляемых во внутреннем плане.
Второй случай взаимодействия партнеров А и Б в процессе вербального общения характеризуется тем, что цель слушающего — только понять речевое сообщение, и, соответственно, слушатель Б предстает в качестве относительно «пассивного» участника коммуникативного акта. Это — ситуация слушания, которая наблюдается в общении лектора и студенческой аудитории. Если в первом случае результат процесса слушания актуализируется для другого партнера, то во втором случае слушание результируется для себя, проходя только путь от внешнего плана к внутреннему плану самой системы Б. Основываясь на положениях Н. И. Жинкина о наличии внутреннего индивидуального, предметно-схемного кода, представляющего собой сложное семантическое образование, можно предположить, что во втором случае происходит более крупное, глобальное соотнесение и смысловая обработка речевого сообщения, требующие в первую очередь понимания, раскрытия основной смысловой связи.
Так как у слушателя нет непосредственной задачи выразить понятое, то смысловое содержание сообщения может и не требовать переформулировки в полную, развернутую форму мысли, оставаясь на уровне понимания того, что сказано для себя. Естественно, что, протекая в решения задачи только понять сообщение, слушание сопровождается достаточно высокой степенью концентрации внимания. При этом из-за отсутствия необходимости формирования собственного высказывания и соответственно параллельного включения внутреннего плана говорения оно осуществляется вне условий распределения
88внимания. Нераспределенность внимания служит той компенсаторной силой, которая обеспечивает наряду с глобальной смысловой обработкой речевого сообщения и возможность его более тщательного анализа. Как показало проведенное нами с Т. А. Стежко [32] исследование, слушание в условиях решения задачи только понять речевое сообщение (то есть во втором случае) также сопровождается внутренней активностью, но оно менее продуктивно. Если о степени внутренней активности судить, в частности, по степени идеомоторных речедвижений, то, как показали исследования А. Н. Соколова, «речедвигательные напряжения появляются в процессе слушания главным образом в двух случаях: во-первых, в момент «напряженного внимания к речи говорящего и ее закрепления (фиксирования) и, во-вторых, в момент затруднений в понимании речи говорящего и ее последующей логической обработки. В остальных случаях слушание речи не сопровождается сколько-нибудь заметными речедвигательными раздражениями» [31. С. 166]. Описанный А. Н. Соколовым первый случай появления речедвижений может быть приравнен к рассмотренному нами первому случаю взаимодействия слушания и говорения. Тогда как наш второй случай, несомненно, относится к «остальным случаям», упомянутым А. Н. Соколовым. И в плане общей характеристики слушания его следует определить как внутренне активный процесс.
Итак, оба случая взаимодействия слушания и говорения в коммуникативном акте вскрывают деятельностную, то есть активную и целенаправленную, природу слушания, что часто подчеркивается употреблением специального термина «аудирование». Но наряду с рассмотренными ситуациями у человека в процессе вербального общения может быть состояние «слышания» без целенаправленного слушания, то есть то, что удачно определено И. Р. Гальпериным как «пассивное слушание». Это — тот процесс, который как бы противостоит коммуникативно-речевой деятельности, определяясь только состоянием слухового анализатора и постоянной мыслительно-мнемической активностью человека. Как подчеркивает И. Р. Гальперин [9], при таком слушании внимание уделяется пониманию основного содержания сообщения, а второстепенные детали, факты ускользают. Слушатель удерживает в основном то, что выделено самим говорящим.
89Это наблюдение И. Р. Гальперина, являющееся результатом многолетней практики иноязычного общения со студентами, как нельзя лучше иллюстрирует одну из основных закономерностей восприятия вообще, и слухового восприятия в частности, — выделение предмета на фоне, или избирательность восприятия. Действительно, при пассивном слушании материал, контрастирующий по физическим либо семантическим признакам, или выделяющийся своей внутренней организацией, или находящийся в начале либо конце сообщения и подпадающий поэтому под действие «эффекта края», запечатлевается и обрабатывается по закономерностям самой мыслительно-мнемической деятельности. В результате этого пассивное слушание ведет только к фрагментарному, случайному отражению связей и отношений, представленных в речевом сообщении. Оно не может привести к адекватному пониманию мысли говорящего. Ясно, что из рассмотренных трех случаев взаимодействия слушания и говорения в коммуникативном акте только в двух первых слушание может характеризоваться как активный процесс. Это происходит тогда, когда партнер Б, которому направлено речевое сообщение, является либо «потенциальным» говорящим, либо «активным» слушающим.
В общении лектора и студенческой аудитории имеет место слушание второго вида, особенности которого не могут не быть учтены лектором. Естественно, это определяет и меру ответственности лектора за организацию деятельности слушания в аудитории и, более того, за обучение этой деятельности студентов. Очевидно, что здесь возникает необходимость проведения более тщательного анализа внутренней психической функции, внутренней стороны деятельности слушания, определяемой как смысловое восприятие, учет особенностей и закономерностей которого может способствовать повышению эффективности слушания.
Смысловое восприятие рассматривается нами как внутренняя сторона, как психологический механизм речевой деятельности слушания. Известно, что человеческое восприятие — это сложный процесс приема и переработки информации. Он становится еще более сложным и неоднородным, когда речь идет о восприятии речевого сообщения. В условиях слухового восприятия речевого сообщения слушатель не может еще раз вернуться к непонятому
90или замедлить процесс поступления непонятного сообщения. Это положение подчеркивается всеми исследователями речевого восприятия в условиях коммуникативных процессов. Так, Ю. А. Шерковин отмечает, «что проблема восприятия в психологии относится к числу труднейших... Это обусловлено тем, что изучение любого акта столкновения психики человека с окружающей его действительностью всегда превращается в решение задачи со многими неизвестными» [36. С. 77].
Сложность и неоднородность этого процесса обусловливаются целым рядом объективных и субъективных факторов. К объективным факторам прежде всего относится сам объект восприятия — речевое сообщение (текст), представляющее сложное логическое и смысловое образование. Сам процесс восприятия характеризуется также рядом объективных закономерностей — константностью (постоянством, относительной независимостью восприятия от изменения формы, размера раздражителя и т. д.), избирательностью, соотношением предмета и фона и т. д.
К объективным факторам могут быть также отнесены степень новизны сообщения, способ его преподнесения. В качестве субъективных, или функциональных, факторов выступают психологические особенности протекания самого процесса восприятия у субъекта деятельности. Это: а) осмысленность восприятия, б) дискретность этого процесса, в) обусловленность восприятия прошлым опытом человека, г) опережающий характер восприятия и д) обусловленность восприятия закономерностям функционирования памяти.
Осмысленность восприятия речевого сообщения представляет собой одну из наиболее важных особенностей этого процесса. Так, слушая и воспринимая акустические речевые сигналы, слушатель в то же время осуществляет сложный процесс их осмысления. В ходе этого процесса он устанавливает между словами смысловые связи, которые составляют в совокупности смысловое содержание данного высказывания говорящего. В результате осмысления слушатель может прийти к пониманию или непониманию смыслового содержания высказывания. Важно
91отметить, что само понимание психологически может характеризоваться разной глубиной, разным качеством. Согласно определению одного из исследователей психологической природы понимания З. И. Клычниковой, «понимание текста есть уяснение: а) связей и отношений объектов и явлений, о которых говорится в сообщении, к объектам и явлениям реальной действительности, б) связей и отношений, которые существуют между объектами и явлениями, о которых говорится в сообщении, в) тех отношений, которые испытывает к ним говорящее лицо, а также г) той побудительно волевой информации, которая содержится в сообщении» [15. С. 35]. Понимание речевого сообщения неоднородно: оно осуществляется на разных ступенях, уровнях, в разных планах. При этом понятие неоднородности смыслового восприятия может быть связано с понятием уровневой природы этого процесса. Идея ступенчатости (или уровневости) процесса восприятия сформулирована Н. Н. Ланге еще в 1893 г. в «теории перцептивных ступеней».
...В. А. Артемов отмечает, что восприятие и понимание речи проходят три взаимосвязанные ступени: первичный синтез полученных впечатлений, аналитическое рассмотрение их и завершающий вторичный синтез их в законченный образ. Если на первой ступени воспринимающий речь синтезирует возникающие у него слуховые, зрительные и двигательные ощущения, исходя из своего отношения к тому, что воспринимается, то на второй, аналитической, ступени происходит процесс сличения воспринимаемого сигнала с тем «предваряющим образом», который создается в памяти. Происходит процесс установления соответствия и несоответствия «предваряющего образа» с воспринимаемым сигналом. Большое значение для этой ступени восприятия приобретает запас лексических, грамматических и фонетических знаний слушателя. Вторичный завершающий синтез возникает в результате соотнесения воспринимаемого сообщения с широким контекстом всего текста или с ситуацией, о которой идет речь [5].
Определенный интерес представляет принцип выделения уровней слушания (включающего и понимание), предложенный С. Фессенден. В соответствии с этим принципом на первом уровне получения информации (звуки, факты, мысли) еще нет ни анализа, ни оценки информации.
92На втором уровне осуществляется идентификация выделенных из общего фона объектов восприятия. Отметим, что, согласно автору, с третьего уровня собственно начинается осмысление, установление смысловых связей и отношений. Именно на этом уровне происходит интеграция (объединение и соотнесение) получаемой информации с прошлым опытом человека. Этот уровень может быть неосознаваемым, но может и контролироваться сознанием как целенаправленное извлечение сведений из прошлого опыта. Четвертый уровень предполагает вычисление нового в сообщении методом подобия и различия. На этом уровне возникает оценка принятой информации. Пятый уровень — уровень интерпретации — содержит продолжение субъективно-оценочной обработки принятой информации с выявлением общего смысла, подтекста и т. д. Шестой — уровень интерполирования подтекста, следующего высказывания, намерения. На этом уровне С. Фессенден предполагает определенное предвосхищение человеком будущего действия. Седьмой уровень содержит интроспективную оценку всего осуществленного процесса.
Как видим, в этом перечне уровней находит отражение общепсихологический подход к интерпретации процесса слухового восприятия с полным отвлечением от «аспектной» характеристики речевого сообщения. Этот подход характерен и для многих современных зарубежных исследователей, придерживающихся в основном того же принципа выделения уровней речевого восприятия.
В работах советских психологов Н. Г. Морозовой и А. Н. Соколова был намечен новый подход к выделению уровней понимания на основе существенного именно для смыслового восприятия речевого сообщения принципа — от определения значения слов и смутной догадки об общем смысле высказывания к установлению конкретного значения слова и «действительного смысла сообщения».
Этот подход получил наиболее полное и в то же время новое освещение в концепции З. И. Клычниковой. Рассматривая речевое сообщение как воплощение четырех групп категорий смысловой информации, а именно: «1) категориально-познавательных, 2) ситуативно-познавательных, 3) оценочно-эмоциональных и 4) побудительно-волевых», З. И. Клычникова [16. С. 96] выделяет в соответствии с ними четыре плана текста и семь уровней
93его понимания в процессе чтения. Первый уровень — понимание отдельных слов, или «понимание категориально-познавательной информации». Второй уровень — понимание словосочетаний, то есть понимание «категориально-познавательной и частично ситуативно-познавательной информации текста». Третий уровень предполагает понимание отдельных предложений и всех трех планов сообщения: «логического, эмоционального и побудительного». Четвертый — шестой уровни понимания характеризуют понимание текста, но на разной глубине осмысления планов сообщения. Седьмой, высший, уровень понимания определяется З. И. Клычниковой как уровень поступочного понимания. На этом уровне понимания «чтец распознает не только логическое и эмоциональное, но и волевое содержание текста. Текст понимается столь глубоко, что чтец из лица воспринимающего превращается в лицо сопереживающее. Волевая, побудительная направленность текста превращается в стимул для его деятельности» [16. С. 101]. Здесь следует подчеркнуть, что в само понятие уровня З. И. Клычникова [15] вкладывает сочетание таких моментов, как тип, вид, план, ступень. Соответственно, семь конечных уровней — это наиболее типичные реальные сочетания (из 160 теоретически возможных), основой которых является характер отражения смысловых категорий.
З. И. Клычникова определяет также и показатели понимания текста, в качестве которых, по мнению автора, выступают способы проверки понимания. Нам кажется, что такой в целом очень интересный и продуктивный для обучения чтению на иностранном языке подход тем не менее не дает полного ответа на вопрос о том, каковы же оперативные критерии понимания речевого сообщения в процессе смыслового, особенно слухового восприятия. Ответ на этот нерешенный вопрос психологии речевого восприятия следует, по-видимому, искать в характере взаимоотношения уровней понимания и последующего воспроизведения воспринятого речевого сообщения. При этом в качестве характеристики уровней удобнее принять не изменение этого процесса от слова к тексту, а углубление, изменение степени понимания слушающим предмета основной мысли говорящего, основного содержания высказывания, лекции.
94Первый уровень оцениваемого таким образом понимания речевого сообщения характеризуется пониманием слушателем только того, о чем говорится в тексте, то есть уяснением основной мысли высказывания. Это самое общее и в определенном смысле слова поверхностное понимание речевого сообщения. Находящийся на этом уровне понимания текста, например, студент имеет самое общее представление о том, что говорится лектором. Он может ответить только на вопрос, о чем была лекция. Таким уровнем понимания может характеризоваться, например, слушание студентами I курса лекции о трансцендентальном идеализме, когда они смогут только определить основной предмет высказывания лектора и в лучшем случае понять основные положения, определяющие эту теорию. Слушатель, характеризующийся этим уровнем понимания, устанавливает в процессе смыслового восприятия лекции только основные смысловые связи.
Второй уровень понимания характеризуется уяснением слушателем не только того, о чем говорится, но и того, что говорится в данном высказывании. Другими словами, студент, находящийся на этом уровне понимания текста, уже устанавливает смысловые связи между основными планами развертывания мысли. Он может раскрыть и осмыслить основную и все дополнительные линии высказывания. Естественно, что такой слушатель строже следит за логической последовательностью сообщения, за системой аргументации, ибо он уже располагает предварительным знанием общих свойств, характеристик, соотношений рассматриваемых в лекции предметов или темы в целом. Но в то же время характеризующийся этим уровнем понимания речевого сообщения студент не имеет еще глубоких систематизированных знаний проблемы, что неизбежно будет препятствовать его проникновению в самые тонкие и трудноуловимые смысловые связи речевого сообщения. Во время лекции такой слушатель сопоставляет, анализирует полученную информацию, устанавливает все больше смысловых связей между тем, что он знает, и тем, что слышит в данный момент, вынося решение о том, что нового сказано по сравнению с уже известным ему. Естественно, что такой слушатель более взыскателен и требователен к материалу лекции, к ее организации.
95Третий уровень понимания речевого сообщения характерен для человека, обладающего глубокими профессиональными знаниями в той области, которой посвящена лекция, широким кругозором и богатым жизненным опытом. Такой слушатель проникает в самую сущность изложения и в определенной мере опережает ход развития мысли говорящего. На основе глубокого знания темы он оценивает во время слушания не только то, что раскрывается в изложении, но и то, как, какими средствами это достигается говорящим. Подобный слушатель, имеющий свое мнение по излагаемой проблеме, очень чуток к мнению говорящего, к авторской подаче содержания, интерпретации, трактовке материала лекции.
Четвертый — высший — уровень понимания характеризуется пониманием слушателем не только того, о чем, что и как сказано говорящим, но прежде всего умением выявить основной смысл высказывания, его главную, ведущую мысль, вне зависимости от того, сформулирована она говорящим или дана в подтексте. Проникновение слушателя в подтекст высказывания, понимание того, зачем, для чего это говорится, и определяет четвертый уровень понимания. Таким образом, очевидно, что смысловая организация логической и смысловой структуры речевого сообщения, с одной стороны, обусловливается уровневым характером его понимания, а с другой стороны, сама может определять эти уровни.
Рассмотренные нами уровни понимания характеризуют глубину проникновения мысли слушателя в смысловое содержание воспринимаемого текста, но они не свидетельствуют о том, как он сам осознает этот процесс. Очень продуктивный, на наш взгляд, подход к определению уровней понимания (с точки зрения меры осознания слушателем своей деятельности, то есть с позиции отчетливости понимания) был предложен А. А. Смирновым. Анализ процесса понимания с позиции оценки глубины, отчетливости, полноты и обоснованности этого процесса рассматривается Ю. А. Шерковиным [36] в качестве основного применительно к анализу коммуникативных процессов. По А. А. Смирнову, понимание проходит пять ступеней. Первая ступень этого процесса — только предварение понимания: «Мы еще не поняли того, что воспринято, но чувствуем, что вот-вот уже что-то будет понято нами» [29. С. 168]. Это ступень «зарождения понимания»,
96на которой начинается, но еще не осознается человеком, воспринимающим текст, сам процесс его осмысления. Вторая — «ступень смутного понимания» — характеризуется смутным, не совсем ясным, точным, отчетливым «осознанием области, к какой относится то, что воспринято нами» [С. 169], и только на третьей ступени понимания имеет место субъективно переживаемое осмысление текстовой информации как ее понимание. При этом, согласно А. А. Смирнову, на этой ступени «понимание субъективно переживается как уже достигнутое, хотя выразить его мы еще не можем» [С. 169]. Четвертая ступень — это отчетливое понимание сообщения слушателем, но без перевода воспринятого (понятого) на свой внутренний код. В результате «при понимании словесного материала эта ступень характеризуется тем, что мы просто воспроизводим воспринятое, причем максимально словами подлинника» [С. 169]. Самая высокая ступень понимания речевого сообщения характеризуется «освобождением от скованности словесной формулировки» воспринимаемого смыслового содержания и возможностью свободного изложения понятого своими словами, что возможно только при условии перевода принимаемой информации на внутренний код слушателя.
Взаимоотношение, взаимозависимость описанных нами четырех уровней проникновения слушателя в замысел высказывания говорящего, т. е. уровней глубины понимания, и пяти ступеней отчетливости понимания, выделенных А. А. Смирновым, представлены ниже в таблице. В этой таблице по вертикали (сверху вниз) располагаются уровни глубины понимания, при фиксации каждого из которых предполагается, что предыдущие также реализованы, а по горизонтали — ступени отчетливости понимания. В каждой клетке таблицы находит выражение некоторое качество понимания, оцениваемое по пятибальной системе. Высший уровень понимания, характеризующийся самой высокой ступенью отчетливости и в то же время наибольшей глубиной проникновения в замысел высказывания, оценивается в 5 баллов. Эта оценка определяет «очень хорошее понимание», 4 балла — «хорошее понимание», 3 балла — «только удовлетворительное понимание», 2 балла — «плохое понимание», на грани непонимания и 1 балл — переживание процесса осмысления, не достигшего своего результата.
97Таблица
| Уровень глубины понимания | Ступень отчетливости понимания |
| I
(предварение понимания) | II
(смутное понимание) | III
(субъективное переживание понимания) | IV
(понимание, выраженное чужими словами) | V
(собственное выражение понятого содержания текста) |
| I | (о чем) | | | | 1 | 2 |
| II | (что) | | | 1 | 2 | 3 |
| III | (как, какими средствами, почему так) | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV | (что имел в виду говорящий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Отметим, что образовавшиеся по диагонали уровни понимания имеют одну количественную характеристику при разной качественной. Действительно, в любом из трех случаев только удовлетворительным может считаться понимание слушателем речевого сообщения, если он, хотя и собственными словами, но может передать только содержание, не будучи в состоянии ни проанализировать, ни вскрыть подтекст, основной мотив высказывания, или если он, хотя и не в собственной пока еще формулировке, но может уже проинтерпретировать структуру, языковые, логические средства выражения мысли, или хотя он и не может выразить, но понимает даже подтекст и то, зачем, по какому мотиву сделано высказывание. При этом поставленная в клеточке таблицы оценка понимания означает, что предшествующий уровень глубины и отчетливости понимания (то есть индекс по вертикали и горизонтали) получил оценку не ниже данной.
Как видим, предложенное представление уровней понимания, оцененных на основе учета отчетливости и глубины понимания текста, позволяет наметить определенный подход к выявлению оперативных критериев этого процесса (см. таблицу). В то же время проведенный анализ способствует уяснению самой важной особенности восприятия речевого сообщения — его осмысленности.
98Существенной особенностью речевого восприятия является также его дискретный характер. Эта особенность вытекает из первой. Действительно, если речевое восприятие носит осмысленный характер и обусловливается активной мыслительной деятельностью слушателя, то возникает вопрос, как проходит это осмысление, как протекает этот процесс.
В психологических исследованиях по восприятию и запоминанию речевого материала было показано, что в процессе слушания происходит увеличение или укрупнение отдельных более мелких и менее значимых по смыслу частей или кусков текста, которые составляют основу его смыслового содержания. Человек во время слушания устанавливает смысловые связи между этими частями по различным принципам (часто очень индивидуальным) и образует более сложные смысловые единства. Предположим, что студент слушает лекцию на тему распространения русского языка в мире. Лектор называет страны, регионы, где изучается русский язык, сравнивает их между собой по уровню достигнутого успеха в обучении. Студент, осмысливая приводимые лектором данные, делает для себя вывод о преимуществах обучения в том или ином регионе. В силу того что восприятие речевого сообщения протекает во времени, сам процесс укрупнения, переработки смысловой информации требует ее временного накопления посредством специального механизма.
В процессе смыслового восприятия речевого сообщения механизм накопления и укрупнения смысловой информации выявляется путем выделения «смысловых опорных пунктов», или «смысловых вех», текста. Эти смысловые опоры, в свою очередь, являются результатом смысловой группировки (расчленения, анализа, объединения) речевого материала. При этом, как подчеркивает А. А. Смирнов, «выделяя в запоминании опорные пункты, мы имеем в виду не их самих, а именно смысл, который они собой представляют, смысл того целого, которое ими заменяется» [29. С. 230].
Сопоставление абсолютных оценок восприятия одномерных стимулов в различных модальностях их входа и многомерных стимулов, рассматриваемых нами как частный и наиболее простой случай многомерности речевого сигнала, позволило другому исследователю этой проблемы Дж. Миллеру высказать предположение, что в процессе
99восприятия человек в основном имеет дело не с количеством информации в двоичных единицах, а с количеством формируемых им единиц восприятия или «отрезков» информации. По данным Дж. Миллера [23], среднее значение пропускной способности для одномерных стимулов по всем стимульным переменным равно 2,6 двоичной единицы, тогда как при многомерных оно достигает 7,2 двоичной единицы. В силу этого «мы должны признать важность процессов группирования или организации входных последовательностей в единицы, или отрезки информации» [23. С. 217]. Естественно, что каждая из таких единиц, являясь смыслообразующим целым, представляет в то же время результат накопления, объединения для последующего принятия решения. При этом отмечается, что «это целое всегда есть нечто более осмысленное и связанное, чем то, что фактически дано для запоминания» [29. С. 171].
Этот процесс увеличения единицы восприятия путем накопления и смысловой группировки был назван перекодированием (А. А. Смирнов, Дж. Миллер, Г. В. Репкина). Оно рассматривается, с одной стороны, в качестве «центрального психологического механизма оперативного запоминания» [26. С. 5] и, с другой — как «исключительно мощный инструмент для увеличения количества информации, которое мы можем обработать» [23. С. 22]. Приводимые Дж. Миллером результаты эксперимента по увеличению информации за счет перекодировки показали, что человек способен одновременно воспринять и безошибочно воспроизвести до 36 двоичных единиц информации.
В зависимости от значимости входного акустического сигнала, соотношения в нем информативных и избыточных элементов, личностной установки или готовности воспринимающего к воздействию этого сигнала и других факторов порция накопления информации при ее слуховом восприятии, то есть смысловая единица, по которой принимается решение в результате смыслового перекодирования, может быть больше или меньше. Эта смысловая единица может быть представлена образом, словом, несколькими словами или умозаключением. Другими словами, важно отметить, что накопление и обработка смысловой информации в процессе ее восприятия идут порциями,
100или «шагами», что и определяет дискретный, пошаговый характер восприятия любого речевого сообщения.
Можно высказать предположение, что разные слушатели характеризуются различным шагом смыслового восприятия — дробным, мелким или, наоборот, крупным, широким. Эта разница в обработке смыслового материала может определяться как разными типами восприятия слушателей (целостным, синтетическим или аналитическим), так и широтой, глубиной личностного опыта, включающего и знание темы. Несомненно, что более мелкий, дробный шаг осмысления иногда тормозит восприятие текста сообщения в целом и соответственно затрудняет весь процесс слушания. Очень дробный шаг восприятия и осмысления может также затруднять уяснение более общих положений, основывающихся на сцеплении частных. Крупный, широкий шаг осмысления позволяет как бы отвлекаться от деталей, следить за развитием основной мысли только по узловым моментам. Такой характер осмысления может определять и бо́льшую скорость понимания воспринимаемого речевого сообщения, но он может вызвать и потерю существенных деталей его смыслового содержания. Такова вторая особенность смыслового восприятия речевого сообщения.
Следующей важной характеристикой восприятия речевого сообщения является апперцепция, или влияние прошлого опыта на этот процесс. Апперцепция наиболее явно проявляется именно при восприятии речевого сообщения. Это происходит в силу того, что восприятие речевого сообщения обусловливается множеством факторов: знанием языка, предмета, о котором идет речь, и практикой слушания (не говоря уже об общем уровне культуры, образовании, возрасте слушателя и т. д.). Все эти факторы влияют на восприятие, направляют и определяют этот процесс. Так, в работах В. А. Артемова приводятся примеры, показывающие, как под влиянием прошлого опыта, находясь в плену апперцепции, люди, слыша одно и то же высказывание, воспринимают его совершенно по-разному. Эта особенность восприятия наиболее очевидно проявляется в таких случаях, когда звуковая форма почти аналогична. Например, фразы «Расскажи мне об аварии», «Смотри тяни же» могут быть в известных случаях общения поняты как «Расскажи мне о Баварии» и «Смотрите ниже». Так, например, фраза «Я расскажу вам о Баварии»
101людьми, которые только что видели уличное происшествие, скорее всего, может быть воспринята как фраза «Я расскажу вам об аварии». Такое восприятие будет обусловливаться прошлым опытом и звуковой ассоциацией.
Естественно, для того чтобы преподаватель был правильно и точно понят студентами, ему необходимо ясно представлять, каким может быть влияние их прошлого опыта на восприятие материала лекции. Лектор должен четко представлять, на какие знания студентов он может опереться при изложении материала как уже на известные им, о чем можно говорить как о само собой разумеющемся, а что требует детального объяснения, толкования. Следует отметить, что преподаватель-лектор, со своей стороны, тоже может отчасти организовать положительное влияние прошлого опыта, в частности, уже имеющихся у студентов знаний, на процесс смыслового восприятия ими содержания лекции. Для этого он должен создать у них внутреннюю установку на слушание данной лекции. В общепсихологическом плане установка понимается как готовность, направленность субъекта к совершению какого-либо действия.
Установка на восприятие лекции может возникнуть у слушателя в результате его внутреннего настроя, внутренней готовности к слушанию, вызванных определенной мотивацией его поведения. Но установка, как показал опыт, может быть и сформирована посредством умелой инструкции преподавателя, интересного раскрытия им плана сообщения, постановки проблемного вопроса, заставляющего студентов задуматься. В этих случаях установка на слушание как бы внушается говорящим слушателю.
Зависимость восприятия от прошлого опыта дает человеку основание для построения некоторых прогнозов в процессе восприятия, то есть позволяет определенным образом предвосхищать будущее. Это влияние прошлого опыта, выражающееся в предугадывании будущего, носит название антиципации, или предвосхищения, и является одним «из важнейших законов деятельности» [10. С. 146]. Способность предвосхищать будущее основывается на сформулированном П. К. Анохиным законе опережающего отражения воздействий окружающей действительности. Согласно этому закону, ««опережающее отражение действительности есть основная форма приспособления
102живой материи к пространственно-временной структуре неорганического мира...» [1. С. 24]. Опережающее отражение рассматривается П. К. Анохиным как «предупредительное» приспособление, имеющее «одну и ту же решающую характерную черту — сигнальность» [С. 27] и выражающееся в том, что актуализация одного из звеньев цепи, связанных между собой повторными совместными появлениями событий в прошлом опыте организма, вызывает мгновенную актуализацию всех следов.
В работах целого ряда советских психологов было показано, что это предвосхищение носит вероятностный характер. Другими словами, в процессе восприятия человек прогнозирует наиболее вероятную для данной ситуации реализацию явления. В силу указанных особенностей вербального сообщения вероятностное прогнозирование особенно ярко выявляет именно в его речевом, смысловом восприятии. Это позволяет говорить о вероятностном характере восприятия речевого сообщения как одной из определяющих особенностей этого процесса. Механизм прогнозирования речевого высказывания заключается в том, что в процессе слушания человек, приняв первое слово фразы, уже может предположить (не осознавая, конечно, этого), какое слово будет с наибольшей вероятностью следовать за ним. Если лектор начинает фразу со слов «Весь мир внимательно следит за ходом переговоров...», то слушатели в силу своего прошлого опыта и общего контекста высказывания предугадывают возможное окончание фразы ...о разоружении. Процесс прогнозирования наиболее вероятного смыслового завершения фразы, абзаца и текста в целом в значительной мере определяет шаг и, соответственно, скорость осмысления воспринимаемого сообщения. Очевидно, что, воспринимая фразу, человек основную информацию получает уже в ее начале. Конец фразы, определяемой по контексту, то есть по наибольшей вероятности ее завершения, является как бы лишним, избыточным, так как слово или группу слов уже можно было угадать из контекста.
Анализируя психологический механизм прогнозирования, Дж. Миллер дал развернутую программу этого процесса: «...слушатель начинает с предположения о сигнале на входе. На основе этого предположения он порождает
103внутренний сигнал, сравниваемый с воспринимаемым. Первая попытка, возможно, будет ошибочной; если так, то делается поправка и используется в качестве основы для следующих предположений, которые могут быть точнее» [24. С. 251] и т. д. Хотя Дж. Миллер не говорит о вероятностной характеристике выдвигаемого слушателем предположения, можно допустить, что, обусловливаясь прошлым опытом и общим контекстом общения, оно всегда имеет эту субъективную вероятностную характеристику.
Все исследователи перцептивно-мыслительной деятельности человека (Е. Н. Соколов, А. Н. Леонтьев, Е. П. Криник, Л. Арана, О. К. Тихомиров, И. М. Фейгенберг и др.), отмечая ее вероятностный характер, рассматривают при этом «вероятность появления стимула как особый психологический агент, определяющий скорость реакции испытуемого» [20. С. 32]. Введение вероятностной характеристики существенно изменило традиционное рассмотрение восприятия, подчеркнув динамичность и детерминированность этого процесса — «процесса изменения априорных вероятностей гипотез по мере ознакомления с отдельными свойствами воспринимаемого предмета» [4. С. 47]. Вероятностное прогнозирование в такой интерпретации может рассматриваться как определенный механизм выдвижения гипотезы и последующего ее подтверждения (или отклонения) на основе сличения в ней входящего сигнала по системе критических точек (Е. Н. Соколов), последовательно меняющих меру неопределенности или энтропию этого сигнала.
Несомненно, что вероятностная ценность гипотез обусловливается всем прошлым опытом человека (то есть является выражением апперцепции в общепсихологическом плане), тогда как само прогнозирование соотносится с антиципирующей деятельностью мозга на фоне готовности человека к процессу отражения им окружающей его действительности. Вероятностное прогнозирование, таким образом, является тем понятием, которое фокусирует в себе основные категории, соотносимые с обусловленностью восприятия деятельностью и состоянием самого субъекта и индивидуальной значимостью объекта восприятия. В то же время вероятностное прогнозирование может быть определено как процесс упреждения целого, предвидения последующих за данным элементов на
104основе оценки априорной вероятности их появления в апперципируемом целом.
Исследование вероятностной организации поведения вообще, и речевого в частности, показывает, что в силу вероятностного характера перцептивного процесса и самого речевого сообщения его смысловое восприятие являет собой наиболее сложный, но в то же время наиболее детерминированный случай перцепции. Усваивая слова в определенных сочетаниях друг с другом, человек и воспринимает их, прогнозируя то сочетание, которое при прочих равных условиях чаще всего встречалось в его прошлом опыте, то есть может следовать с наибольшей вероятностью в данной ситуации (или контексте) общения. Такая постановка вопроса привела к утверждению прямой зависимости частоты встречаемости слов, их сочетаний, определенных выражений и вероятности их появления в процессе восприятия речевого сообщения.
Существенными в развитии этого направления являются три положения, касающиеся восприятия слов: во-первых, утверждение влияния на вероятность появления символа не только его частоты (объективная), но частоты и значимости денотата и субъективно-эмоциональной оценки обозначенного словом понятия как хорошего (приятного) или плохого (неприятного). Во-вторых, четкое формулирование гипотезы о частотно-вероятностной организации словаря в памяти носителя языка. По этой гипотезе, «словарь в целом организован в соответствии с «индексом» частот» [34. С. 78] и его вероятностная организация проявляется во всем речевом поведении индивида, что подтверждается «зависимостью порогов распознавания от вероятности стимула, коррелированностью прямых оценок с данными словаря» [35. С. 5] и другими экспериментальными данными. И, в-третьих, определение роли знания общего смысла высказывания в процессе вероятностного прогнозирования. Исследование Т. Слама-Казаку и А. Рочерик [28] подтвердило мысль К. Шеннона, что предсказание букв, слов осуществляется легче по мере того, как общий смысл всего контекста становится известным. Так, например, исследуя частоту предсказания буквы «е» на отрывке в 37 строк, разделенном на 3 части, Т. Слама-Казаку показала, что количество правильных ответов, приходящихся на эти три части, распределяется, соответственно, как 62,6; 81 и 94,4%.
105Третье положение о влиянии понимания общего смысла высказывания на характер прогнозирования послужило для нас основанием выдвинуть гипотезу о двух уровнях прогнозирования в процессе смыслового восприятия речевого сообщения: а) на уровне смысла, то есть на уровне предугадывания развития хода мысли говорящего, развития основных смысловых связей текста, и б) на уровне конкретной реализации или вербализации этих смысловых связей [14]. Первый условно назван нами уровнем смысловых гипотез, второй — уровнем вербальных гипотез. Исходным являлось положение о том, что если в процессе смыслового восприятия у человека нет никакой смысловой гипотезы, то реализация вербальной идет методом планомерного (поалфавитного) перебора всех возможных символов или методом случайных проб и ошибок (что приводит к одному результату — большому количеству попыток). Проведенные эксперименты показали, что выдвижение смысловой гипотезы, являясь выражением смысловой связи, реализуется в определенных синтаксических связях, например, управлении, примыкании, и в атрибутивной, дополнительной, обстоятельственной и других формах связи слов. И если наиболее вероятная, например, дополнительная смысловая связь в предложении не угадывается человеком, то его восприятие этого предложения осуществляется путем случайного или поалфавитного перебора начальных символов слова.
При исследовании вероятностной природы слухового восприятия интерес представляют также данные по выявлению субъективной вероятностной оценки воспринимаемого речевого сигнала в зависимости от того уровня языковой иерархии, к которому он принадлежит. Как известно, зависимость восприятия каждой конкретной речевой единицы от субъективной оценки вероятности ее появления устанавливается не только на уровне фразы, но и на всех остальных уровнях языковой иерархии [13]. Исключение может составлять восприятие изолированных звуков, хотя и на этом уровне уже есть вероятностная оценка отнесения данного звука в зону того или иного эталона — звукотипа. Эта оценка, осуществляемая на основе обработки физических свойств звука, не может рассматриваться как прогнозирование, хотя и имеет вероятностный характер.
106Вероятностный характер восприятия будет проявляться со все большей очевидностью по мере усложнения структуры речевого сигнала и тех связей, которые объединяют его части в целое — звуки в слог, слоги в слово и слова во фразы, фразы в текст, где слог является как бы контекстом для звуков, а фраза — для слов. Исходя из общепсихологической закономерности восприятия соотношения частей и целого, можно предположить, что чем шире этот контекст, чем сложнее структура целого, тем менее зависит восприятие от точности физической характеристики отдельных элементов или частей целого и тем больше оно будет обусловливаться вероятностной оценкой всего сигнала. Принимая какой-либо звуковой сигнал, человек сразу же выдвигает гипотезу о принадлежности этой части к какому-то целому, вероятность реализации которой основывается на широком контексте и в значительной мере на частотности этого целого в алфавите данного языка.
Естественно, что в подтверждении правильности вероятностного прогноза роль опорных пунктов играют информативные части слов, предложений, текста. Не менее важны и избыточные элементы сообщения. Избыточность, проявляющаяся на всех уровнях языка (фонемном, морфемном, словах и словосочетаниях), служит основой большой надежности восприятия речевого сигнала, его помехоустойчивости в любых условиях общения, связи. Так, например, во фразе «Я иду с большой книгой в руках» дублирующими и, следовательно, избыточными являются местоимение я и личное окончание глагола, согласованные окончания прилагательного и существительного и т. д. Но именно это неоднократное повторение информации в нескольких элементах сообщения обеспечивает безошибочность и точность его восприятия. Напомним, что количество избыточности в речевом письменном сообщении равно примерно 70%. Можно предположить, что в устном лекционном сообщении должно быть разумное соотношение избыточного и информативного. Оно, во-первых, обеспечивает надежность восприятия при оптимальной информативности сообщения. Во-вторых, такое соотношение, и в частности большая доля избыточности, необходимо для того, чтобы дать слушателю возможность и время обработать поступающую информацию. Преподаватель, учитывающий особенности вероятностного
107прогнозирования речевого восприятия студентами, как бы с первого момента лекции направляет их мысль по нужному руслу. Он заставляет предугадывать, предвосхищать его мысль, вовлекая тем самым студентов в активную мыслительную деятельность в процессе слушания лекции.
Смысловое восприятие речевого сообщения органично включает в себя осмысление, установление смысловых связей, смысловых соответствий, результирующееся в понимании или непонимании этого сообщения. В процессе смыслового восприятия поступающий на слуховой анализатор человека материал структурируется, обрабатывается, модифицируется. И совершенно естественно, что этот материал и средства его обработки должны удерживаться, сохраняться во времени для осуществления осмысления. Удержание, сохранение внешнего воздействия, как известно, осуществляется памятью. Это определяет обусловленность восприятия и в целом речевой деятельности слушания особенностями памяти слушателя. Здесь следует обратить внимание на то, что по отношению к деятельности вообще, и к речевой деятельности в частности, разграничиваются два вида памяти — постоянная и оперативная.
Оперативная память «представляет собой органический компонент любой деятельности, то текущее запоминание, когда задача запоминания ставится не извне, а вызывается естественной необходимостью при выполнении действия, причем сохранение материала требуется только на время его переработки» [26. С. 4]. Соответственно, в процессе слушания речевого сообщения оперативная память человека выступает лишь в качестве одного из условий успешного осуществления им речевой деятельности и одного из средств, при помощи которых эта деятельность выполняется.
Именно в оперативной памяти удерживаются и соединяются образы восприятия, связываются и первично обобщаются, обрабатываются речевые единицы. В то же время в целом ряде психологических исследований было показано, что объем оперативной памяти ограничен. Так, было найдено, что величина этого объема определяется «магическим числом 7±2» [23. С. 222—224]. Тем самым и количество информации, которое мы можем получить, переработать и запомнить, также ограничено. Число 7±2
108определяет среднестатистическое значение количества объектов (единиц), которое человек может запомнить после их однократного предъявления. Такими единицами, как показали эксперименты, могут быть и звуки, и слоги, и слова, и фразы, и абзацы. Другими словами, количество единиц оперативной памяти, или объем оперативной памяти, ее разрешающая способность номинально определены. В то же время качество, структура этих единиц могут быть существенно разными. При этом по мере усложнения единицы значительно увеличивается ее информативность. Так, если одна цифра в двоичной системе содержит 1 бит (одну двоичную единицу информации), а буква алфавита — 5 битов, то односложное слово (из общего количества примерно 1000 слов) несет уже 10 битов. Легко представить, как велик информационный объем таких единиц, как фразы и абзацы. По образному сравнению Дж. Миллера, «...мы оказываемся, таким образом, в положении человека, кошелек которого не вмещает больше семи монет независимо от того, гривенники это или полтинники. Совершенно ясно, что мы будем богаче, если заполним кошелек не гривенниками, а полтинниками. Точно так же мы можем использовать возможности нашей памяти более эффективно, заполнив ее богатыми информацией символами, такими, как слова, или, быть может, изображения, а не мелкой монетой вроде цифр» [22. С. 38]. В нашем случае каждая единица — это смысловое единство. Внутреннее укрупнение, перевод всех входящих в него связей на более емкие смысловые единицы внутри, например, такой единицы речевого сообщения, как абзац, позволяет удержать и обработать большее количество информации в процессе слушания.
Как уже отмечалось выше, внутренним механизмом такого укрупнения является перекодировка, то есть перевод с менее крупных на более крупные смысловые единицы в процессе осмысления. Рассматривая механизм перекодировки в связи с дискретностью смыслового восприятия, мы уже отмечали, что в основе перекодировки лежит группировка, смысловая организация поступающего на слуховой анализатор материала. В зависимости от этого меняется «порция», «квант» обрабатываемого в данный момент сообщения, или «шаг» смыслового восприятия. Отметим здесь, что студент может и сам регулировать скорость и характер обработки смысловой информации,
109предварительно упражняясь в слушании текстов разной логической и смысловой структуры.
В зависимости от характера перекодировки меняются и уровни оперативных единиц самой оперативной памяти. В исследованиях были выделены три уровня оперативных единиц памяти — оптимальный, промежуточный и низший. При функционировании оперативных единиц памяти низшего уровня вообще «отсутствует перекодирование запоминаемого материала; процент совпадения со структурными элементами задачи лежит в рамках чисто случайного». Оперативные единицы памяти оптимального уровня, по Г. В. Репкиной, «представляют собой отражение элементов логической структуры материала, практически полностью совпадая со структурными элементами ситуации» [26. С. 5]. В плане нашего рассмотрения такие единицы отражают внутреннюю смысловую структуру речевого сообщения. На этом высшем, или оптимальном, уровне переработки материала «на основе отражения существенных связей свойств отдельных объектов и их групп осуществляется сложное перекодирование запоминаемой информации, когда объединяются не только характеристики изолированного объекта, но и структурно связанные совокупности объектов» [26. С. 11]. Таким образом, смысловое объединение, логическая группировка объектов, подлежащих восприятию и запоминанию, укрупняют единицы оперативной памяти и тем самым увеличивают их информативную емкость.
Здесь существенно подчеркнуть, что в речевом сообщении, например, в лекции, смысловые части (блоки) заданы самим говорящим, лектором. Задача студента заключается в том, чтобы, слушая его сообщение, мысленно «пройти» по этому же пути укрупнения. Отметим, что количество частей, «смысловых кусков» текста не должно превышать названного выше объема оперативной памяти, ибо слушатель в среднем запоминает не более семи основных проблем или пунктов плана сообщения. Показательны результаты воспроизведения учебного текста, приведенные в работе А. А. Смирнова [29]. Каждый из учеников называл только те смысловые куски, которые запоминал. Если сравнить показания восьми человек, то видно, что количество смысловых кусков, удержанных ими в памяти, колеблется от 2 до 10, составляя в среднем 5 для данной группы. В последующих экспериментах по
110восприятию, пониманию, воспроизведению текстов студентами нами были получены данные, позволяющие говорить о том, что количество смысловых кусков, удержанных в их памяти, находится в тех же пределах, то есть в пределах того же магического числа 7±2.
В психологических исследованиях памяти было обращено внимание на величину, длину куска. Считая, что внутри куска объединение идет по принципу микротемы и что каждый человек в процессе восприятия и воспроизведения интуитивно ориентируется на «чувство объема», А. А. Смирнов подчеркивает необходимость расчленения учебного текста на средние по величине куски, ибо ни слишком малые, ни слишком большие части, куски, разделы сообщения для слушателя неприемлемы. Те и другие могут «перегрузить» память, предполагая в первом случае специальное «заучивание» или даже механическое запоминание большого количества мелких единиц, а во втором — являясь слишком большими для формирования оперативных единиц памяти и восприятия. Поэтому подобные членения текста не будут выполнять той функции, ради которой разбивка производится. Они не будут помогать пониманию, осмыслению, усвоению учебного материала. «Чтобы легче, «удобнее» запомнить, нужны какие-то средние по объему разделы. Именно они и дают возможность запомнить не механически, а наиболее осмысленно» [29. С. 206]. К сожалению, пока мы не имеем более точных данных, какой же средней величиной (в количестве предложений, сверхфразовых единств или микротекстов) должен определяться «кусок» — это дело будущего экспериментального исследования.
Следует также отметить, что в результате тесной связи восприятия, памяти, мышления образ восприятия несколько реконструируется в процессе его приема и осмысления. В нем сохраняется и непосредственно то, что было в оригинале, и присутствует результат процесса осмысления, выражающийся в обобщении или конкретизации каких-то явлений, в объединении и разъединении некоторых частей и т. д. При этом такая «реконструкция» образа восприятия является естественным и прямым следствием осмысленности восприятия, с одной стороны, и перекодировки — с другой.
«Мы воспринимаем... то, что запоминается нами, в его полном, развернутом содержании и в то же время «сжимаем»
111его, делаем более кратким, чем оно есть на самом деле» [29. С. 163]. В то же время производится и смысловое укрупнение текстовой информации. В качестве иллюстрации процесса укрупнения смысловой, оперативной единицы памяти можно привести один пример. Студентам предлагается выполнить следующее задание: «Назовите, пожалуйста, столицы таких государств, как Норвегия, Финляндия, Швеция, Аргентина, Бразилия, Чили, Перу, Иран, Ирак, Афганистан, Турция». Это задание предполагает большую активность именно оперативной памяти, так как, чтобы выполнить его, необходимо удержать в памяти исходные данные — название государств. Наблюдения показали, что студенты, как правило, легко справляются с этой задачей, ибо для ее решения они удерживают в оперативной памяти не одиннадцать единиц, а всего три, стягивающие в себя все приведенные названия стран. В качестве таких более крупных смысловых единиц, получаемых в результате перекодирования, выступают понятия «Скандинавия» для первых трех стран, «Латинская Америка» для следующих четырех и «Ближний и Средний Восток» для остальных.
Таким образом, осмысление, объединение различных суждений в единое смысловое целое, в смысловой кусок, с целью уменьшения количества единиц оперативной памяти и увеличения информации — вот тот путь, которым проходит восприятие и запоминание речевого сообщения в процессе слушания лекции. При этом, подчеркнем еще раз, большое значение при восприятии устного речевого высказывания имеет выделение слушателем смысловых опор или смысловых вех, которые как бы формируют остов, скелет всего сообщения, определяя логику изложения мысли, способствуя удержанию ее в памяти.
Эти смысловые, опорные пункты текста могут быть соотнесены с понятием «фактологической» цепочки слов, несущих информацию текста и выявляющих предикативные связи на уровнях микро- и макропредикаций. Проведенное Т. М. Дридзе исследование показало, что такая «фактологическая цепочка образует, по существу, тот каркас, на который как бы нанизывается текст и который интуитивно выхватывается читателем из текста при беглом чтении» [12. С. 121]. Это же может быть отнесено и к процессу слушания.
112Можно сказать, что раскрытие смысловых связей, обозначаемых смысловыми пунктами или в целом фактологической цепочкой, и выявление всей предикативной структуры являются основной задачей слушающего.
Отсюда следует очевидный вывод: если восприятие протекает по смысловым кускам и представляет собой процесс смыслового укрупнения, то сам текст лекции, особенно учебной для студентов, должен максимально содействовать этому. Текст учебной лекции должен быть организован как стройное единство четко выраженных и логически связанных между собой развернутых положений, каждое из них является смысловым куском, общее количество которых соотносится с объемом оперативной памяти слушателя. В каждом из этих смысловых кусков уже самим лектором должны быть выделены, намечены основные смысловые вехи, которые создадут смысловой «рельеф» как этой части, так и всего текста в целом. Соответственно, рассматриваемые в лекции вопросы целесообразно сгруппировать вокруг не более чем пяти основных проблем, потому что число пять — это реально существующий нижний предел оперативной памяти слушающих. Интересно вспомнить в этой связи высказывание одного из крупных литературоведов и искусного лектора Л. П. Гроссмана: «В основе исполнения — четкое разделение текста на большие фрагменты, помогающие раскрытию основной темы или сквозного действия, таков и композиционный принцип лекции. Обычно 6 или 8 больших разделов (по 15 или 20 минут) раскрывают постепенно и полностью главную идею чтения» [11. С. 318].
Одной из важных особенностей речевого восприятия является также более четкое и ясное удержание в сознании слушателей информации, подаваемой в начале и в конце сообщения [33]. Многочисленные эксперименты, проводимые психологами по исследованию восприятия и удержания в памяти последовательности слов или целого текста, представляющего цепочку излагаемых фактов, показали, что и в том, и другом случае лучше запоминаются начало и конец предъявляемого речевого материала. Слушая, например, текст, человек наиболее точно и полно запоминает и потом воспроизводит те суждения, которые раскрывались в начале или конце текста. Такая особенность восприятия и удержания в памяти речевого сообщения объясняется действием известного в психологии
113«закона первого и последнего места» или «фактора, эффекта края». Согласно этому закону, при прочих равных условиях лучше запоминаются те стимулы, которые были предъявлены в начале и конце списка.
В этой связи, говоря об особенностях восприятия основной мысли сообщения, следует отметить, что она уясняется слушателями, студентами и воспроизводится ими при однократном предъявлении только в том случае, если сформулирована самим лектором и, более того, если помещена в начале или, что еше благоприятнее, в конце сообщения. (Это объясняется действием того же закона первого и последнего места.) В том случае, когда главная мысль высказывания должна быть понята из всего контекста сообщения, слушатели, как правило, могут передать ее только в результате дополнительного целенаправленного осмысления всего того, что было ими прослушано. Это явление может быть объяснено следующим образом. Слушая высказывание, человек следит за «сцеплением» основных положений, за развитием основных событий, определяющих содержание сообщения. Для того чтобы вывести основную идею, слушателю нужно «приложить как бы дополнительные усилия», провести как бы вторичную обработку того, что непосредственно воспринимается. Этот процесс, естественно, требует времени и специальной установки. Следовательно, для того чтобы облегчить студенту выявление основного смысла, главной мысли лекции, лектору нужно либо четко сформулировать эту мысль в самом тексте, либо выразить достаточно явно подтекстом [33].
Как показали результаты проведенного нами эксперимента по воспроизведению студентами воспринятого на слух речевого сообщения (отрывок из новеллы Ст. Цвейга, 200 слов) на родном языке, сформулированная в виде вывода его главная идея передается (а, соответственно, и воспринимается) в 95% случаев. Лучше всего из смысловой информации передаются предикаты I порядка (73%), то есть основные, раскрывающие предмет всего высказывания, мысли, суждения. Затем по убывающей идут предикаты уточняющие (42%), детализирующие (28%).
Место предикаций также влияет на запоминание. Самым высоким процентом (80%) характеризуется воспроизведение смысловой информации, переданной в начале сообщения. Соответственно, учитывая особенности восприятия
114уже сформулированной главной мысли сообщения, лектор-преподаватель должен четко определить ее в начале лекции и затем, делая заключение, еще раз обратить внимание студентов на те положения, при помощи которых он раскрывал, доказывал, описывал эту основную мысль лекции. Такая работа преподавателя особенно важна для студентов-иностранцев, ибо она создает широкую ориентировку в тексте лекций и самой деятельности слушания, снижает трудности восприятия языковой формы. Следует еще раз подчеркнуть, что необходимым условием полноты восприятия речевого сообщения, глубины понимания и прочности его запоминания является активная мыслительная деятельность слушателя. А сама активная мыслительная деятельность слушателей может вызываться, как мы уже отмечали, правильной постановкой проблемы обсуждения, организацией текста, манерой его преподнесения, умелым сочетанием индуктивного и дедуктивного способов изложения и оправданно необходимым применением наглядности.
Мы рассмотрели основные особенности смыслового восприятия речевого сообщения, которые обусловливают успешность этого процесса и определяют эффективность деятельности слушания. Но нельзя не отметить, что успешность слушания лекции и ее понимание в значительной мере зависят также и от некоторых индивидуально-психологических и коммуникативно-речевых особенностей самого говорящего. В силу этого «...слушатель попадает как бы в зависимость от его манеры говорить, темпа речи, ее продолжительности и других условий» [17. С. 163].
В качестве таких условий, определяющих успешность слушания, но зависящих от говорящего, могут быть названы следующие: 1) артикуляционные данные говорящего (артикуляционная чистота, степень редукции и т. д.); 2) время предъявления (длительность звучания сообщения), 3) темп произнесения (средняя длительность слога) и 4) степень заинтересованности говорящего в том, чтобы быть понятым, проявляющаяся в эмоциональности, четкости выделения логики изложения и адекватности интонационного оформления мысли.
Наибольший интерес при рассмотрении этих особенностей представляет общая зависимость смыслового восприятия от темпа звучащей речи. Исследователям этой проблемы удалось выявить влияние темпа на особенности
115слухового восприятия речевого сообщения. Так, было показано, что «при медленном темпе речи усложняется синтетическое «обобщение впечатлений в законченный образ речи», быстрый темп мешает «аналитическому рассмотрению речевого потока» [7. С. 32]. В то же время была достоверно показана связь между темпом произносимого и воспринимаемого сообщения и личным темпом слушателя. Было найдено, что если «темп предъявленного отрывка приближался или сравнивался с личным темпом испытуемого, последний характеризовал такой тип, как «нормальный темп речи». В этом случае создавался оптимальный режим передачи и приема информации, и испытуемый схватывал не только основную мысль, но и легко воспроизводил детали» [7. С. 32]. Таким образом, было показано, что такая временная характеристика говорения, как темп речи лектора, является одним из факторов, обусловливающих эффективность слушания лекции. Соответственно для повышения эффективности слушания учебных лекций, особенно студентами-иностранцами, лектором должен быть специально отработан средний или оптимальный темп чтения лекций, соответствующий и среднему личному темпу студентов.
О влиянии степени заинтересованности говорящего в том, чтобы быть понятым, на смысловое восприятие слушателем его высказывания пока можно судить только на основе эмпирических данных, на основе наблюдений. Но о правомерности существования такого влияния может косвенно свидетельствовать тот факт, что заинтересованность говорящего выявляется в эмоционально повышенном тонусе, который, в свою очередь, должен вызвать эмоциональное сопереживание у слушателя. Психологически же оправданным является положение, согласно которому то, что вызывает эмоциональное сопереживание у слушателей, запоминается и осмысляется ими лучше, чем нейтральное, индифферентное.
В заключение рассмотрения особенностей смыслового восприятия отметим, что, по свидетельству исследователей этой проблемы, процесс смыслового восприятия всегда оказывается под влиянием также и самого характера речевого сообщения, определяемого языковыми особенностями (фонетическими, грамматическими, лексическими, стилистическими) и логико-смысловой структурой текста сообщения. Так, на смысловое восприятие
116прежде всего оказывает влияние степень сложности грамматических форм выражения мысли. Об этом свидетельствует, в частности, некоторое увеличение времени реакции человека на более сложные грамматические формы. Многие авторы утверждают, например, что «предложения в активной форме легче понимаемы, чем их пассивные трансформации» [19. С. 91]. Об отрицательном влиянии сложных грамматических форм на понимание сообщения писал также и А. Н. Соколов [30. С. 70]. Интересен в этом плане материал исследований, вскрывающий влияние структуры отдельного сложного предложения (например, последовательно развертывающегося вправо и «гнездующегося») на понимание. Так, было «показано, что испытуемые с очень большим трудом (с большим числом ошибок) понимают «самовставляющиеся» предложения... и эта трудность растет с увеличением числа «самовставлений» [19. С. 93]. Полученный в этих работах вывод о том, что из последовательно вставляемых предложений первое (главное) и последнее лучше понимаются, чем средние, объясняется действием того же «закона первого и последнего места» или «фактора эффекта края». Правда, в некоторых работах отмечается статистически значимое преимущество ориентации слушателей только на начало фраз. Интерес в этой связи представляют результаты исследования зависимости смыслового восприятия от глубины отдельных фраз. Так, И. М. Лущихиной был получен определенный вывод: «...наихудшим восприятие становится при максимальной длине и... при максимальной глубине фразы» [24. С. 95]. Оптимальными являются длина предложения, не превышающая 11 слов, и глубина, не превышающая 5 единиц, что может быть учтено преподавателями при подготовке учебных текстов.
В целом ряде исследований было также показано влияние композиционно-смысловой структуры текста на его восприятие, понимание и запоминание. На материале исследования восприятия текста на иностранном языке было, в частности, установлено, что «при наличии в тексте дедуктивно-индуктивного способа изложения мыслей авторское обобщение, представленное как исходное общее положение, способствует раскрытию не только конкретных мыслей текста, но и более быстрому и правильному пониманию другого авторского обобщения, носящего характер итогового индуктивного вывода, что выгодно отличает
117этот способ изложения мыслей от чисто индуктивного» [8. С. 11].
Таким образом, мы видим, что смысловое восприятие, являющееся внутренним психологическим механизмом слушания, представляет собой сложный процесс, обусловливаемый целым рядом особенностей и факторов, учет которых может способствовать оптимизации этого вида речевой деятельности и, более того, учебной деятельности слушания лекции.
Проведенный анализ показывает, что слушание как вид речевой деятельности, особенно слушание лекций, представляет собой сложную перцептивно-мыслительно-мнемическую внутреннюю деятельность человека. Эта деятельность неизмеримо усложняется, когда текст как объект восприятия предъявляется на слух на неродном для студентов языке. Как же облегчить эту ситуацию для студента-иностранца? Один из путей был предложен в нашем с Л. И. Апатовой исследовании, где сам текст был рассмотрен как ориентировочная основа действия. Обучение слушанию или аудированию по разработанной на этой основе схеме, базирующейся на теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина, оказалось достаточно эффективным в плане повышения продуктивности слушания студентами лекции и, более того, переноса этого умения на чтение [3; 2].
Ссылки на литературу к II.3.2
1. Анохин П. К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. — М., 1968.
2. Апатова Л. И. Обучение пониманию иноязычной речи на слух // Автореф. дисс. канд. пед. наук. — М., 1971.
3. Апатова Л. И., Зимняя И. А. Смысловая структура текста как ориентировочная основа в обучении пониманию иноязычной речи на слух // Сб. науч. тр. / Моск. гос. пед. ин-т им. М. Тореза. — М., 1972. — Вып. 69.
4. Арана Л. Восприятие как вероятностный процесс // Вопросы психологии. — 1961. — № 5.
5. Артемов В. А. Конспект лекций по психологии. — Харьков, 1953.
6. Артемов В. А. Курс лекций по психологии.— 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков, 1958.
7. Архипов Г. Б. О влиянии темпа речи на аудирование // Уч. зап. I МГПИИЯ. — 1968. — Т. 44.
8. Венделянд А. Э. К вопросу о композиционно-смысловой структуре учебного текста и ее влиянии на понимание // Автореф. дисс. канд. пед. наук. — М., 1970.
9. Гальперин И. Р. О слушании иностранной речи // Уч. зап. Ташкент. гос. пед. ин-та иностр. яз. Сер. филол. наук. — 1963. — Вып. 8. — Часть 1.
11810. Геллерштейн С. Г. Действия, основанные на предвосхищении, и их моделирование в эксперименте // Проблемы инженерной психологии / Под ред. Б. Ф. Ломова. — М., 1969. — Вып. 4.
11. Гроссман Л. П. Об искусстве лектора. — М., 1970.
12. Дридзе Т. М. Экспериментальное изучение проблемы информативности публицистического текста // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком: Сб. статей / Под ред. А. А. Леонтьева и Т. В. Рябовой. — М., 1969.
13. Зимняя И. А. О вероятностном характере речевого восприятия // Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. М. Тореза. — 1971. — Т. 60.
14. Зимняя И. А. О двух планах вероятностного прогнозирования в восприятии речи (на материале фраз): Материалы IV Всесоюзного съезда общества психологов, Тбилиси, 21—24 июня 1971 г. — Тбилиси, 1971а.
15. Клычникова З. И. Психологические особенности восприятия письменной речи (психология чтения): // Автореф. дисс. докт. психол. наук. — М., 1975.
16. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. — М., 1973.
17. Кочкина З. А. Аудирование как процесс // Иностранные языки в высшей школе: Тематич. сб. / Отв. ред. Г. В. Колшанский. — М., 1964. — Вып. 3.
18. Ланге Н. Н. Психологические исследования. — Одесса, 1893.
19. Леонтьев А. А. Психологические единицы и порождение речевого высказывания. — М., 1969.
20. Леонтьев А. Н., Кринчик Е. П. Применение теории информации в психологических исследованиях // Вопросы психологии. — 1961. — № 5.
21. Лущихина И. М. Экспериментальное исследование психолингвистической значимости грамматической структуры высказывания // Теория речевой деятельности (Проблемы психолингвистики) / А. А. Брудный, Е. Л. Гинзбург, Б. Ю. Городецкий и др. — М., 1968.
22. Миллер Дж. Информация и память // Восприятие. Механизмы и модели: Сб. статей / Пер. с англ. Л. Я. Белопольского и Ю. И. Пашкевич; Под ред. и с предисл. Н. Ю. Алексеенко. — М., 1974.
23. Миллер Дж. Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать информацию // Инженерная психология: Сб. статей / Пер. с англ.; Под ред. Д. Ю. Панова и В. П. Зинченко. — М., 1964.
24. Миллер Дж. Психолингвисты // Теория речевой деятельности (Проблемы психолингвистики) / Отв. ред. А. А. Леонтьев. — М., 1969.
25. Прангишвили А. С. Исследование по психологии установки. — Тбилиси, 1967.
26. Репкина Г. В. Исследование оперативной памяти / Автореф. дисс. канд. психол. наук. — М., 1967.
27. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М., 1940.
28. Слама-Казаку Т., Рочерик А. Статистика фонем и значение «опыта предсказания» // Revue de Linuistique. Ed. Acad. RPR. — 1959. — Т. IV. — № 2.
29. Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. — М., 1966.
30. Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление. — М., 1968.
31. Соколов А. Н. Динамика и функция внутренней речи (скрытой артикуляции) в процессе мышления // Изв. АПН РСФССР. — 1960. — Вып. 113.
11932. Стежко Т. А. Зависимость сохранения текста от коммуникативных установок в разных возрастных группах. // Автореф. дисс. канд. психол. наук. — М., 1984.
33. Тункель В. Д. К вопросу о передаче речевых сообщений // Новые исследования в педагогических науках // Изв. АПН РСФССР. — 1965. — Т. 5.
34. Фрумкина Р. М. Вероятностное прогнозирование в речи. Сб. статей / Отв. ред. и автор предисл. Р. М. Фрумкина. — М., 1971.
35. Фрумкина Р. М., Василевич А. П. Вероятность слова и восприятия речи // Вопросы порождения речи и обучения языку. Сб. статей / Под ред. А. А. Леонтьева и Т. В. Рябовой. — М., 1967.
36. Шерковин Ю. А. Психологические проблемы массовых информативных процессов. — М., 1973.
II.3.3. Чтение как вид речевой деятельности
В настоящее время явления «техника чтения», «смысловое восприятие текста» и «понимание текста» не могут и не должны рассматриваться, с одной стороны, изолированно, ибо они связаны двумя (по меньшей мере) типами отношений — процессуально-результативными и структурными внутри деятельности как целого, а с другой — синонимироваться, потому что смысловое восприятие ≠ чтению ≠ пониманию.
Считаю, что рассмотрение чтения как специфического вида человеческой деятельности (в контексте теории деятельности А. Н. Леонтьева) является наиболее полным и целостным его представлением. Соответственно, это дает основание в то же время для не только оправданности, но и целесообразности деятельностного подхода к его рассмотрению.
1. Деятельностный подход к чтению, понимаемому в широком смысла как познавательно-информационный процесс, позволяет интерпретировать его как целое одновременно с нескольких точек зрения, в данном случае — четырех:
1.а. с позиции субъекта этой деятельности, чтеца, его индивидных, индивидуально-психологических, личностных проявлений как субъектно-психологических детерминант чтения (мотивы, потребности, установки, цели и др.);
1.б. с точка зрения предметного (психологического) содержания этой деятельности, в совокупности предмета
120(мысль, смысловое содержание текста), средств и способов формирования и формулирования мысли пишущего и читающего, заложенной в тексте как объекте деятельности;
1.в. в контексте структурной организации чтения, где наряду с внешней структурой, включающей действия и операции есть и трехплановое представление этой структуры как разных уровней — мотивационно-потребностно-целевого, предметного и операционального (то есть техники чтения);
1.г. и с позиции единства его внутренней и внешней сторон, где в качестве внутренней (интегральной стороны, по С. Л. Рубинштейну) выступает смысловое восприятие, которое включает акт «понимания», осмысления, а в качестве внешней — исполнительная, «техническая», операциональная сторона.
II. Текст как объект чтения характеризуется как многоуровневое образование, включающее предметно-денотативный, смысловой уровни и уровень средств и способов выражения его предмета, распредмечивание которого преломляется через смысловые категории «через языковое сознание» чтеца в процессе осмысления (установления или воссоздания заложенного создателем (автором) текста смыслового содержания, смысловых связей). Положительный результат такого осмысления есть понимание, а отрицательный — непонимание. Здесь важны два момента: а) осмысление не синоним понимания, которое есть его результат, б) существует зависимость между смыслоорганизованностью текста и смысловой организацией его смыслового восприятия, то есть осмысления текста. Обучение тексту должно быть дифференцированно применительно к условиям, что позволяет управлять смысловым восприятием через осмысление.
III. Понимание текста есть в то же время процессуальное результативное многоуровневое образование, уровни которого могут быть выделены на разных основаниях, критериях — осознанности, глубины, полноты, адекватности, каждый из которых и сочетание которых позволяет с достаточной точностью характеризовать понимание.
IV. Чтец как субъект деятельности, характеризуясь потребностями, мотивами, целями чтения, может быть определен как активный субъект, активность которого реализуется одновременно на нескольких уровнях:
121— личностном, в форме установочно-мотивационно-целевой активности;
— интеллектуальном, в форме выдвижения вероятностных гипотез;
— моторном, в форме глазодвигательно-речедвигательной активности.
Все уровни должны учитываться и рассматриваться вместе.
V. Обучение чтению как деятельности в контексте такого его представления не может ограничиваться или осуществляться только по элементам, например, только технике. Оно должно строиться как обучение деятельности, то есть с позиции управления, формирования и развития самого чтеца и прежде всего а) его мотивационно-потребностной сферы, б) обеспечения адекватного целям предметного содержания и только потом и вместе с этим в) технике чтения. Без этого ничего не будет, особенно в современных условиях, когда книга не выдержит конкуренции со стороны средств массовой информации.
II.3.4. Перевод как вид речевой деятельности
Как известно, перевод представляет собой многогранный объект изучения. «Вопросы перевода могут рассматриваться с различных точек зрения — историко-культурной, литературоведческой (если дело касается художественной литературы), языковедческой, психологической (поскольку работа переводчика предполагает определенные процессы, происходящие в области психической деятельности, и связана с проблемой психологии творчества)» [15. С. 22].
122В последнее время перевод рассматривается и с общепсихологической и с философско-антропологической точек зрения как человеческая деятельность (О. Каде, Г. В. Шатков), и в плане особого вида речевой коммуникации (Г. Ейгер, В. Н. Комиссаров, А. Нойберт и др.). При этом нельзя не отметить, что при достаточно общепринятом лингвистическом определении перевода как «замены сообщения на одном языке сообщением на другом языке по заранее установленным соответствиям» [13. С. 53], не существует пока однозначного психологического определения этого явления. Так, в работах Б. В. Беляева утверждается, что «языковой перевод нужно считать не особым видом речевой деятельности человека, а особым мыслительным процессом, который лишь основывается на речевой деятельности, но особого вида речи не образует» [2. С. 162]. Именно этот мыслительный процесс — «переключение мышления с одной языковой базы на базу другого языка» — и рассматривается Б. В. Беляевым как перевод. Экспериментальное исследование этого процесса позволило Б. А. Бенедиктову сделать вывод, что «устный перевод не является сложным, мыслительным процессом; в то же время его структура не сводится к сумме соответствующих одноязычных владений» [4. С. 312]. Автор определяет перевод как «особую двуязычную деятельность». В работах А. Ф. Ширяева перевод определяется как речемыслительная деятельность, а в исследованиях З. А. Пегачевой, И. В. Голубкова и др. как деятельность или как речевая деятельность. Так, З. А. Пегачева, определяя перевод как «своеобразную речевую деятельность», отмечает, что выполнение этой деятельности сопровождается преодолением целого ряда психологических трудностей [12. С. 138], среди которых одно из первых мест занимает переключение с системы одного языка на систему другого. При этом существенно отметить, что, употребляя термин «деятельность», авторы не вкладывают в него того понятийного содержания, которое закреплено за этим словом в развиваемой в советской психологии теории деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и др.). Определяя перевод как «деятельность», авторы только подчеркивают активный характер этого процесса, не предполагая психологического анализа его содержания как деятельности.
123В данной работе утверждается именно деятельностная сущность перевода. Цель работы состоит в том, чтобы показать, что перевод во всех его формах и, в частности, в форме письменного перевода (ПП), последовательного устного перевода (УП) и синхронного перевода (СП) представляет собой сложный, специфический, вторичный вид речевой деятельности, наряду с такими ее видами, как слушание, говорение, чтение, письмо, думание. Соответственно, анализ этого процесса проводится в работе по трем основным линиям. Во-первых, по линии доказательства того, что перевод — это деятельность, что, в свою очередь, позволит проанализировать перевод с точки зрения психологического содержания деятельности вообще. Во-вторых, по линии аргументации того, что это речевая, а не мыслительная деятельность. И, в-третьих, в плане анализа сложности, специфичности и вторичности этого вида речевой деятельности по сравнению с другими ее видами. Очевидно, что определение перевода как специфического вида речевой деятельности позволяет проводить детальный качественный анализ всего психологического содержания этого явления и, с другой стороны, позволяет сравнивать и сопоставлять этот процесс с другими речевыми процессами на одном и том же логическом основании в одних и тех же терминах.
Определение понятия «речевая деятельность» начнем с рассмотрения исходного понятия «коммуникативная деятельность человека». В общей иерархической структуре «деятельности» как процесса активного непосредственного или опосредствованного целенаправленного и осознаваемого взаимодействия субъекта со средой, наряду с общественно-производственной и познавательной, реализуется и общественно-коммуникативная деятельность. Эта деятельность представляет собой сложный многоканальный процесс взаимодействия людей, опосредующего их взаимодействие с окружающей средой. Основная форма этого взаимодействия, осуществляемая посредством общественно-исторически отработанных вербальных средств (языка как системы единиц и правил оперирования ими) и выявляемая в речевой деятельности общающихся (говорении, слушании, а также чтении и письме) определяется как вербальное общение. Речевая
124деятельность, следовательно, может рассматриваться как реализация общественно-коммуникативной деятельности людей в процессе их общения, и в качестве таковой она характеризуется всей совокупностью психологического содержания деятельности, рассматриваемого нами в плане теории деятельности А. Н. Леонтьева. Напомним, что психологическое содержание деятельности вообще и, соответственно, речевой деятельности (РД) определяется наличием предмета, продукта, результата, единицы, средств и способов реализации. Деятельность, в отличие от процесса, характеризуется также и определенной структурой, в которую входят мотивационно-побудительный, ориентировочно-исследовательский (аналитико-синтетический) и исполнительный аспекты.
Одним из основных элементов психологического содержания деятельности является предмет. По определению А. Н. Леонтьева, «всякая деятельность организма направлена на тот или иной предмет — непредметная деятельность невозможна» [11. С. 37]. Каков же предмет речевой деятельности? Предметом продуктивных видов РД (говорения, письма) является собственная мысль говорящего как отражение различных связей и отношений предметов и явлений реального мира. Предметом рецептивных видов РД (слушания, чтения) является чужая мысль, мысль говорящего. Тот факт, что мысль — идеальна, обусловливает специфический «теоретический», а не предметно-практический характер всех видов речевой деятельности.
Итак, если предметом речевой деятельности является мысль, на формирование и выражение которой направлены и в осуществлении которой реализуются виды РД, то средством существования, формирования и выражения мысли является язык или языковая система. Но мысль говорящего может быть по-разному сформирована и сформулирована при помощи одного и того же словаря и грамматики, то есть при помощи одних и тех же средств. Это находит отражение в способе этой деятельности. И вот способ формирования и формулирования мысли посредством языка мы и рассматриваем как речь. Это определение основывается на положениях Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштейна, заключающихся в том, что «внешняя речь есть процесс превращения мысли в слово, материализация и объективизация мысли» [5. С. 311] и что «в речи
125мы формулируем мысль, но, формулируя ее, мы сплошь и рядом ее формируем» [14. С. 350].
Представляя собой способ формирования и формулирования мысли посредством языка, речь использует язык как инструмент, орудие, средство процессов формирования и формулирования мысли. При этом, естественно, способ формирования и формулирования мысли посредством языка может существенно видоизменяться. Так, он прежде всего видоизменяется в зависимости от коммуникативного намерения говорящего, то есть в зависимости от того, кому адресована эта мысль — себе или собеседнику. В первом из этих случаев мы имеем внутренний способ формирования и формулирования мысли (или внутреннюю речь). Во втором случае — внешний способ формирования и формулирования мысли посредством языка, то есть внешнюю (устную или письменную) речь. Являясь способом формирования и формулирования мысли как субъективной формы отражения отношений явлений объективной действительности посредством языка как социально отработанной знаковой системы, речь представляет собой единство социального и неповторимо индивидуального, реализующегося как в процессе формирования, формулирования и выражения своей мысли (говорение, письмо), так и в процессе формирования и формулирования чужой мысли (слушание, чтение).
Существенно при этом подчеркнуть, что речь отражает процессуальность, динамичность мышления в неразрывной связи с языком, воплощающим результат предыдущих мыслительных актов и участвующим в качестве средства, инструмента, орудия в каждом сиюминутном настоящем.
Психологическое содержание деятельности характеризуется также продуктом. Продукт это то, в чем объективируется, воплощается, материализуется деятельность, ее цель и мотив, предмет и средства, способы и условия. Продуктом продуктивных видов РД (говорения, письма) является речевое сообщение (текст). Продуктом рецептивных видов РД (слушания и чтения) является умозаключение, к которому приходит человек в процессе осмысления воспринимаемого речевого сообщения. Наряду с продуктом деятельность характеризуется и наличием результата. Результатом продуктивных видов РД является
126вербальная или невербальная реакция слушателя (или читателя), тогда как результатом рецептивных видов РД является понимание (положительный результат осмысления) или непонимание (отрицательный результат осмысления) речевого сообщения.
Таким образом, очевидно, что речевая деятельность так же, как любая другая форма деятельности человека, характеризуется всей полнотой психологического содержания и является деятельностью в полном смысле этого слова.
Говоря о речевой деятельности, как уже отмечалось выше, мы имеем в виду процесс взаимодействия людей, осуществляемый ее различными видами. К ним прежде всего относятся говорение и слушание как виды деятельности, в которых непосредственно воплощается способ формирования и формулирования мысли посредством звукового языка (или первичного кода). Именно к этим видам речевой деятельности, реализующим устное вербальное общение, формируется генетическая готовность в человеческом обществе. Именно эти виды деятельности формируются в онтогенезе как способы отражения действительности в единстве общения и обобщения (Л. С. Выготский). Чтение и писание (или письмо) представляют собой более сложные виды речевой деятельности, требующие специального обучения для овладения ими в силу того, что в них отражены не только способ формирования и формулирования мысли, но и способ фиксации результатов отражения действительности. Эти четыре вида речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо рассматриваются как основные виды взаимодействия людей в процессе вербального общения. Чем же является перевод? Представляет ли он собой сумму двух видов речевой деятельности или это сложный, но своеобразный, самостоятельный вид этой деятельности? Докажем, что перевод представляет собой самостоятельный (сложный, своеобразный) вид речевой деятельности человека.
Под определением перевода как сложного вида РД имеется в виду характер обработки принимаемого и воспроизводимого сообщения. Так, если в слушании и чтении характер обработки — рецептивный, а в говорении и письме — продуктивный, то перевод характеризуется как рецептивно-репродуктивная деятельность. При этом, если в основе рецептивных видов РД лежит процесс смыслового
127восприятия, осмысления (как установления смысловых связей и принятия решений), а в основе продуктивных видов РД лежит процесс продуктивного, творческого мышления, то перевод как сложная рецептивно-репродуктивная деятельность предполагает совокупность хорошо развитого смыслового восприятия, результативного осмысления и репродуктивного мышления. Сложность перевода как вида речевой деятельности выявляется также и в характере опережающего отражения действительности, являющегося «универсальной и самой древней закономерностью» [1. С. 124] в истории эволюции животного мира. Эта закономерность проявляется в рецептивных видах РД в форме вероятностного прогнозирования, а в продуктивных — в форме упреждающего синтеза (подробнее см. [6]). Перевод (особенно устные его формы) характеризуется тем, что упреждение (вероятностное прогнозирование) того, что будет сказано переводчика, осуществляется не только на основе лингвистического опыта и ситуации общения, но также на основе того, что может сказать оратор. Соответственно, меняется сам характер упреждающего синтеза в общем механизме опережающего отражения. Сложный характер обработки воспринимаемого и воспроизводимого материала определяют и особенности работы памяти переводчика, о чем будет сказано ниже при рассмотрении специфики этого вида речевой деятельности.
Естественно, что различные виды перевода (ПП, УП, СП) характеризуются разной степенью сложности. Это определяется мерой слитности рецептивной и репродуктивной сторон процесса, мерой продуктивности и, соответственно, мерой репродуктивности и как следствие этого степенью участия памяти, мнемической деятельности человека. Так, по мере слитности большая сложность характеризует СП. Затем УП и затем ПП (то есть СП>УП>ПП), тогда как по уровню продуктивности, то есть участию творческого элемента в этом виде РД, эти виды перевода располагаются в обратном порядке (то есть СП<УП<ПП). Соответственно, возрастает роль памяти, особенно оперативной памяти, в таком виде перевода, как СП, и вероятностного прогнозирования как основы упреждающего синтеза в этом процессе. В эксперементальных условиях нарушения механизма вероятностного прогнозирования «синхронисты ни в одном случае не
128осуществили полного, правильного перевода фраз такого типа. Темп переводчика резко замедлен. Время пауз значительно превышает время говорения. Не имея возможности выдвинуть гипотезу, а только подтверждать ее в процессе слушания, синхронист вынужден сначала слушать, потом говорить, пропуская то, что звучит во время его говорения» (см. [7. С. 115; 8. С. 111—114]). Другими словами, было показано, что при отсутствии возможности вероятностного прогнозирования нарушается и механизм упреждающего синтеза, или же упреждение осуществляется по неадекватной гипотезе.
Но сложность перевода как вида речевой деятельности, выявляясь наиболее отчетливо в характере обработки воспринимаемого и воспроизводимого материала, в то же время определяет и своеобразие таких элементов его психологического содержания, как предмет, средства, способ, продукт и результат. Так, в продуктивных видах РД (говорение, письмо) предметом является собственная мысль говорящего, в развитии, выражении, определении которой заключается цель этих видов РД. В рецептивных видах РД (слушании, чтении) предметом является чужая мысль, которую нужно восстановить, воссоздать, сформировать и сформулировать для себя. В переводе предметом является чужая мысль, но воссоздаваемая для других от себя. В этом виде РД смысл воспринятой фразы или сообщения является «замыслом» собственного высказывания, который может быть сформулирован с большей или меньшой точностью по сравнению с формулировкой замысла исходной фразы. Таким образом, сложность и специфичность предмета перевода как вида РД заключается в том, что чужая мысль не только воссоздается, формируется, но формулируется. Важно отметить, что если в рецептивных видах используется только внутренний способ формирования и формулирования мысли (внутренняя речь) посредством как индивидуального, предметно-схемного кода, так и посредством языковой системы, то в переводе используется обязательно и внешний (письменный или устный) способ (то есть внешняя речь). При этом, если во всех других видах РД осуществляется формирование и формулирование мысли (своей или чужой), то в переводе осуществляется и переформулирование.
129Переформулирование обязательно включается во внутренний механизм перевода, но с разной степенью осознанности (автоматизированности) и, что самое главное, в разных точках, моментах этого процесса.
Как известно, в работах по психологии перевода проблема качественной характеристики этого процесса, количества составляющих его звеньев, характера промежуточного звена и момента переключения языков остается все же нерешенной. Так, Б. А. Бенедиктов, детализируя трехзвенную модель перевода, считает, что самый сложный вид устного перевода включает «пять ступеней преобразования речевых сигналов: переход от воспринимаемой внешней речи к ее проговариванию, затем переход к внутренней речи на этом языке, ступень собственного перевода — переключение на внутреннюю речь второго языка, последние две ступени — переход к проговариванию на воспроизводимом языке и от него — к внешней речи [4. С. 169]. По характеру различного сочетания этих ступеней он выделяет 16 видов устного перевода. Но в этой схеме открытым остается вопрос локализации, переключения и перехода от одного звена к другому.
Если рассматривать перевод как непрерывный процесс осмысления (формирования и формулирования) воспринимаемой мысли — понимания смысла сообщения и его «превращения» в замысел — и формирование и формулирование самого высказывания, то можно проанализировать и его специфику и сложность как вида РД.
Во-первых, отметим, что осмысление всегда осуществляется внутренним способом формирования и формулирования мысли, то есть внутренней речью, но вопрос в том, средствами какого языка и в какой мере развернутости он осуществляется. Будем считать, что наибольшая мера развернутости, суксессивности этого процесса может сопровождаться даже артикуляционными движениями (то есть реализовываться и форме проговаривания) и обязательно предполагает языковое оформление мысли.
130Если перевод как вид деятельности представляет трудность для человека, то осуществляемое в форме проговаривания (но внутренним способом формирования и формулирования мысли) осмысление будет реализовываться средствами языка источника, языка входа. Если человек владеет этим видом речевой деятельности (владение языками принимается как само собой разумеющееся), то осмысление осуществляется средствами языка перевода, языка выхода или, при высоком профессионализме, средствами внутреннего, индивидуального, предметно-схемного смыслового кода. Таким образом, первое звено — осмысление — осуществляется внутренней речью (внутренним способом формирования и формулирования мысли), но посредством разных «средств» и в разной степени развернутости от суксессивного, внешневыраженного проговаривания до симультанного умственного действия.
Второе звено — установление, формирование смысла воспринимаемого, а тем самым и формирование замысла высказываемого. Оно так же и при тех же условиях может реализовываться системой языка входа, языка выхода и средствами предметно-схемного кода. Но при этом, если осмысление реализуется системой языка входа, то возникает разрыв между смыслом воспринятого и замыслом воспроизводимого, который обязательно должен предполагать систему языка перевода. Возникает необходимость осознавания связи смысл-замысел. Для адекватности их формирования возникает необходимость их «приведения» и переформулирования. Момент переключения с языка на язык приходится на второе звено.
Если осмысление реализуется языком выхода, перевода, то формирование смысла воспринимаемого и есть формирование замысла. Но в этом случае уже сам процесс осмысления включает переформулирование средств выражения воспринимаемой мысли. Этот процесс переформулирования не осознается, протекая как высокоавтоматизированная операция. В том случае, когда осмысление представляет собой свернутый, симультанный процесс, автоматизм переформулирования средств выражения воспринимаемой мысли доведен до предела и второе звено — звено собственно замысла — предполагает развернутое, не подвергаемое интерферирующим влияниям формулирование мысли посредством языка перевода.